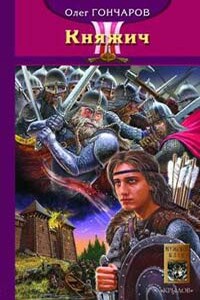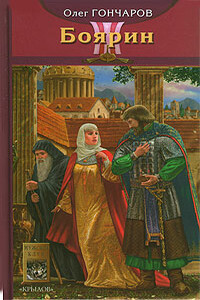— Киевских и посадских я всех знаю, — торопливо сказал Серафим. — Нет среди них рыжебородых.
— Точно?!
— Вот тебе крест святой, — осенил он себя крестным знемением. — Если вру, пусть у меня язык отсохнет.
Против такой клятвы не поспоришь. Выходит, правду говорит божий человек.
— Верю, — сказал я примирительно.
— Ну, ты тогда это…
— Чего?
— Ножик свой убери, — кивнул он на кинжал. — Не пристало в доме Божьем оружием размахивать.
— Извини, — спрятал я кинжал в ножны. — Погорячился я.
Вздохнул он облегченно.
— А что? Неужто на княгиню покушались? — совсем осмелел Серафим.
Понял я, что лишку сболтнул, только что теперь поделаешь?
— Жива она. И в здравии добром. Так можешь и хозяину своему, василису, отписать.
— Так ведь…
— Знаю я про тебя все, — перебил я его. — Так что имей в виду, что, если слух об этом по Киеву пойдет, я не посмотрю, что ты человек Богов.
— Что ты! — замахал он на меня руками. — Эта тайна со мной в Царствие Небесное отправится.
— Смотри у меня! — погрозил я ему кулаком.
Вышел я из церкви, а куда дальше идти, не знаю. Еще одна ниточка в руках моих оборвалась. По моему разумению, Ольга вот-вот вернуться должна, а значит, поторапливаться нужно. Искать гнездо змеиное да давить змеенышей. Только где это гнездо? Как мне до него добраться? Да и поторапливаться нет больше ни сил, ни желания.
Меж тем солнце на закат клониться стало. И понял я, что устал неимоверно. Баня меня взбодрила ненадолго, а теперь силы кончились. Тоска придавила так, что ни руку поднять, ни ногой шагнуть. Зевнул я сладко и решил: будь, что будет, а мне отдых нужен.
Повернулся я и обратно, на Старокиевскую гору поплелся. Иду и ворчу себе под нос:
— И зачем я эту ношу неподъемную тягаю? Зачем Андрею обещал, что за княгиней присмотрю? Зачем ей опорой быть вызвался? Жил бы себе в холопах спокойно, как все живут. Дожидался бы срока своего да о воле мечтал. Вот бы славно было, вот бы складно. Так ведь нет, дернуло меня на рожон переть, старание свое выпячивать. Дурак. Как есть дурак. Сейчас приду во град, завалюсь спать, и гори оно все жарким пламенем…
Брел я так, на себя ругался, а вокруг жизнь продолжалась. И не знали люди, что анадысь чуть не лишились своей княгини. А если бы случилось страшное, разве огорчились бы они? Варяжкой для них Ольга была. И пусть жизнь у них под ее рукой спокойная. Пускай нет уже той ненависти, что при муже ее к находником имелась. И не ропщет никто. И бунты со смутами в прошлом остались, однако и великой любви к правителям своим люди русские не испытывали. Скорее равнодушными были, безразличными. У посадов и всей земли своя жизнь, а у правителей своя, и меж собой эти жизни не пересекаются. Жива Ольга и здорова — ну и хай с ней, а померла, так невелика потеря. Хотя, может, и всплакнул бы кто, а потом снова за повседневные дела бы принялся…
Только знал я твердо, что если бы замысел лихоимцев удался — несдобровать бы народу. Воротились бы каган с воеводой и железом каленым да кровью людской дознаваться бы стали, кто Ольгу со свету сжил. Вот тогда бы точно залились люди слезами горючими. И такого я допускать не хотел.
А пока люди своими обыденными заботами были заняты. Весна на дворе, тут особо не рассидишься. День единый целый год кормит. С утра раннего и до вечера позднего кружилово идет. Кто садом занимается, кто огородом своим, кто-то крышу подновить решил, а у кого-то забор покосился. Вон баба какая-то курам просо посыпает, а вон мальчишки гусей с реки гонят. А гусаки шипят, крыльями гордо хлопают, гусынь своих оберегают. Только мальчишкам не до гусиной гордости. Торопятся они, покрикивают на птиц, спешат в подворье, за ограду, загнать. Оно и понятно.
Стадо коровье по посаду идет. Пастухи кнутами щелкают. Ботала [79] позвякивают. А коровы мычат, на дойку просятся. Наелись молодой травы, теперь по хлевам им надобно. Чуть не бегом бегут, выменем покачивают, на собак посадских рогами помахивают. Передавят гусей, так несдобровать мальчишкам. Отдерут их отцы, матери заругают. А кому охота заруганным да побитым ходить?
Хозяйки на улицу высыпали, кормилиц своих зазывают: