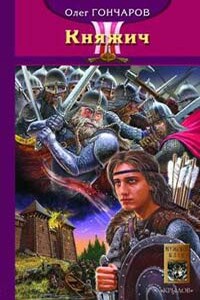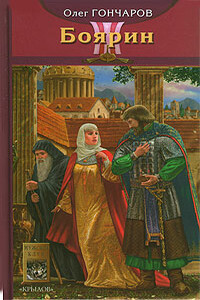Хрипел он. Все пытался воздушку дыхнуть. Только у меня не вырвешься. Особенно если разозлить как следует. А ему это удалось.
Зря он так.
Совсем зря.
Выволок я его в ночь, лунным светом залитую, на землю повалил.
— Что ж ты, — говорю, — Маренин выкидыш, делаешь? Кто же тебя учил так за хлеб за соль платить?
— Пусти! — хрипит он мне в ответ.
Руками размахивает. Все вырваться пытается. Но шалишь! Крепко я его коленом придавил. Да на всякий случай руку на излом взял. Будет дергаться — локоть сверну ему и жалеть не буду.
— Молчи! — я ему. — Молчи и думай, чем извиняться будешь?
— Чтоб он сдох без моих извинений!
Растерялся я от такого. Даже хват ослабил. Где же это видано, чтоб божьего человека клясть?
— Ты никак ушей муромских обожрался?
А он меж тем в себя окончательно пришел. Слабину почуял и вырываться начал. Но не дал я ему на волю вырваться. Еще крепче прижал. Застонал он от боли в руке вывернутой.
— Неужто ты и впрямь поверил, что за ушами хлебными я к муромам поперся? — рассмеялся хрипло подгудошник.
Тяжко ему, но он тяготу свою не оказывает. Настырный. Сипит и высвободиться из-под меня хочет. Закипело во мне все от признания подгудошника. Потянул я его руку на себя, да так, что у него в локте щелкнуло.
— А ну-ка давай выкладывай! На кой ты за мной увязался?
— Ах, чтоб тебя так в пекле Кощей мучил! — взревел Баян. — Переплутовым клыком тебя заклинаю! Отпусти немедля!
Тут уж я и вовсе опешил.
И почудилось мне, что вдруг снова маленьким стал. И будто бы засыпать не хочу, а бабуля мне сказку на ночь рассказывает:
— …и как станет он тебя Переплутовым клыком заклинать, так и знай, что перед тобою калика [93] перехожий. И что ему совсем невмоготу стало…
— Бабуль, — лезу я макушкой под ее тяжелую ладошку, чтоб голову она мне почесала, — а калики, они злые или добрые?
Ерошит она мне волосы, пальцами прядки перебирает, а у меня от удовольствия глаза закрываются.
— Кому-то добрыми, кому веселыми, кому задорными они показаться могут, а нечисти всякой, семени навъему они страшнее рыбьей кости в горле. Их на землю Семаргл, Сварогов пес, посылает. Только им доверяет в Мире этом правду от кривды отличать, и добро от зла оберегать. Иногда может калика и против Правей пойти, если знает, что дело его во благо Миру будет. Их за это сам Сварог прощает. Вот и бродят калики по свету, на благо людям трудятся, а люди про то и не догадываются. Было так и так дальше будет…
— Бабуль, — я уже почти совсем заснул, разморенный горячими бабушкиными пальцами, — а я могу в калики пойти?
— Нет, унучек, — вздыхает она. — Тебе Миром править на роду написано, а не Правь оберегать…
В миг единый бабулина сказка вспомнилась, и пальцы сами разжались. Руку его отпустил, но до времени слезать с него не стал. Мало ли, что ему в голову стукнет? А вдруг он снова в землянку кинется, чтобы дело свое тайное завершить?
— Все, — сказал подгудошник грустно. — Слово не воробей. Вылетело. Хрен с ним, с Григорием. Видно, Сварогов пес его пожалеть захотел.
Я его отпустил. Вздохнул глубоко, чтоб в себя скорее прийти. Сел на землю, на звезды яркие посмотрел, на луну полную. Холодный свет полнолуния окрасил все вокруг в серое. И сруб церковный, и реку, что текла у самого подножия Карачар, и пыхтевшего не хуже медведя подгудошника.
— Что там у вас? — Луч желтого света вырвался из двери землянки.
— Никифор, — позвал я, — вы там целы?
— Слава Тебе, Иисусе Христе, — сказал Никифор. — Мы с учителем в порядке. А с дружком твоим деручим? Что с ним?
— Ты прости его, Никифор. — Я положил руку на плечо Баяна, чтоб не вздумал он рыпнуться. — У него в полнолуние ум за разум заходит. Лунная болезнь.
— Ох, Господи! — бас Никифора вдруг сорвался. — Волкулак?! [94]
— Да будет тебе, — успокоил я парня. — Не так уж все страшно. Просто звереет он от полной луны. Но ты пока за Григорием присмотри. А я буйного нашего совсем успокою.
— Ну, помогай тебе Господь. — И луч света пропал. Пускай пока христиане в землянке посидят. Шум поднимать да Карачары будить не стали, и на том спасибо. А мне пока в спокойствии кое-что выяснить надобно.
— Отдышался, волкулак? — спросил я Баяна.