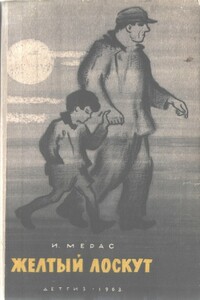Мужчина делал свое дело не впервые, я мог на него положиться, он знал, что делает, только очень спешил — может, так всегда, или только в этот раз, может, я слишком замешкался, может, и вправду приближался чей-то последний час, а я старался вспомнить, бывают ли лекарства, чтобы не заразить, бывают ли такие, чтобы не оплодотворить, и какие еще лекарства бывают в таких случаях.
Тогда он втолкнул меня в соседнюю комнату.
И тогда я угадал.
Должно быть, угадал.
Чтобы быть настоящим мужчиной — сильным мужчиной.
Мне стало спокойней. И приятней. Я мог полагаться на себя в любом случае. Мог выдавать себя за мужчину не страшась.
Только выглядел я неважно в жалкой оставшейся на мне одежде: в потрепанной майке и трусах.
В таком виде меня и втолкнули в эту огромную комнату, мягкой мебелью обставленную, и три женских существа спокойно сидели там в ожидании, и я бесконечно застыдился, в таком обнаженном и потрепанном виде очутившись в незнакомом доме, среди трех женщин, и стал я словами и жестами извиняться, и долго извинялся, однако они все не обращали внимания ни на эти извинения, ни на меня самого, и понял я, что ничего такого, ничего страшного, а может, даже и совсем привычно, ведь я был предметом, доставленным, подготовленным и брошенным сюда для определенной надобности, и все остальное не имело никакого значения, а может, они притворялись, и я спокойно уселся в мягком кресле, и ногу на ногу забросил, и об одежде забыл, и полутемную комнату осмотрел, и женщин, всех трех; беспокоило меня, почему их здесь трое и какой из них предназначался я, неужели всем, вряд ли всем, ведь думал найти здесь только одну, но если их было три, что поделаешь, просто не надо было обращать внимания, ведь и они не замечали, что был я всего лишь в потрепанной майке, может, так и должно было быть, а может, все они сидели вместе, чтобы одной из них было легче ждать — меня ждать: а может, сидели они все три, чтобы разговор какой завязать, чтобы познакомились мы, что ли, или хотя бы о погоде поговорили, что ли, чтобы все стало простым-простым, и я осмотрел женщин, всех трех, ища жену очкастого мужчины, которой, как думал, предназначался я.
Никакого знака, никакого движения, словно заколдовал я их, а может, они меня заколдовать хотели. Безмолвие пропитало воздух, и вещи, и женщин.
Я с кресла поднялся.
— Имя мое, — сказал я. — …
И поклонился каждой в отдельности.
— Фамилия моя, — сказал я, — …
И снова оказал честь каждой.
Никто не ответил, даже не дрогнул, и тишина все длилась, начиная пугать.
Неужели все, думал я, неужели всем я нужен, и как тут начать, или они сами начнут, или какой знак подать надо, что я готов, хотя и не чувствовал себя мужчиной, может, лекарства еще не подействовали.
Сел я опять в свое кресло и сосредоточился, стараясь хоть какую-то жизнь почувствовать, ведь живыми же были эти женщины, все три.
На диване, в угол локтем упершись, телом половину кресла заполнив, сидела пожилая женщина. Я видел ее большое круглое лицо, пышные волосы, обрамляющие это лицо, к рупные руки, полуобнаженные, такую же крупную грудь и бедра, черную одежду на ней, круглый живот, той же одеждой стянутый. Она и была, видимо, женой очкастого.
Но она даже не взглянула на меня, может, я не был ей нужен.
Во вторую всмотреться никак я не мог. Словно видел ее, но не видел. Она маячила у меня перед глазами как тень, как темная тень, потому что комната была такой же серой, как и прихожая, и никакого яркого цвета не было вокруг. Как во сне. И видел я ту вторую всего лишь, как темный силуэт, и хотя я знал, что она молода, и хороша, и привлекательна, и лучшая из них — пусть бы ей-то и был я нужен, — но не видел ни ее глаз, ни губ, ни щек, ни рук, хотя и знал я, что они есть, сливалось все это с ее стройным телом, вытянувшимся, почти лежащим в таком же кресле, как мое, и видел я ее глядящей не на меня, а напротив, на третью — на девушку, застывшую на краю широкой кровати.
Посмотрел и я на нее и понял: не напрасно спешил светловолосый очкастый мужчина, подготавливая меня. Было время — самое время, — самый последний час.