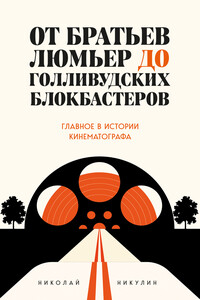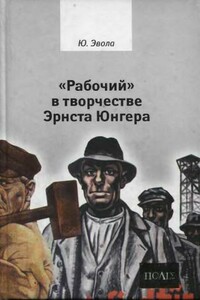Конечно, бывают болтливые глупцы, и об этой касте совсем другой разговор, но если у них нет разумной возможности себя сдерживать, то как же быть с людьми учеными? Казалось бы, и разум есть, и научный метод, и тип мышления, и – как его там? – ученая степень, а все равно слова вырываются, словно из рога изобилия. Это из большой щедрости, что ли?
Потому-то это один из самых страшных пороков, что стал, как сказала бы Ханна Арендт, «банальностью зла». И если она этой банальностью обозначила насилие, которое было свойственно XX веку и укоренилось в бытии, то для XXI века несомненной банальностью стала излишняя говорливость. Время спокойное, от стрессов лечат психологи, от банкротства – друзья, а от запоя – родственники. Но вот от чего не вылечиться, так от болтливости. Она, так сказать, на уровне подсознания, на уровне инстинктов.
Садишься с утра пить чай с женой, весь такой образованный и проницательный в политике, и начинаешь говорить о государственных проблемах. Как будто жена с утра только об этом и хочет слышать. Как будто ей не снился страшный сон, о котором ей хотелось бы рассказать. Как будто ее не тревожит ваше совместное будущее. Как будто дети в школе перестали получать двойки по природоведению. Как будто в мире нет ничего более важного, чем политическое состояние дел в родной стране.
«Ну, хорошо, давай расскажи, какой ты гражданский активист».
А будь это женщина! Пришел, значит, домой после безумного рабочего дня мужчина, лег в расслабленности на диван, включил футбол и тут тебе: «А ты знаешь, что сегодня приняли закон, по которому…» Ах, как жаль, что нет законов против болтунов! Не то чтобы их слова неверны или, скажем, не патриотичны (боже упаси, обвинять оппозиционеров в болтливости!), но они бывают несколько неуместны. И все тут.
Пожалуй, абсурдно бы выглядело разрешение говорить много: дескать, давай, я сделал себе чай, можешь говорить. Даже оскорбительно для говорящего. Но разве не является ли оскорбительным тот факт, что тебе приходится выслушивать информацию, которую ты решительно слышать бы не хотел? Ну кто его знает, почему ты отказываешься ее слушать? Может, ты просто занят чем-то. Представляете? Человек может быть чем-то занят.
Почему бы в таком случае не заговорить – на полном серьезе – о праве человека не слушать другого. Это же так просто – заткнуться!
Но разве невежественный человек может понять, каково это – сдерживать в себе неуемное образование? Легко молчать, когда в твоей голове пусто. А ты поди помолчи, когда твоя голова кричит научными фактами, художественными фантазиями, философскими теориями. И как жаль, что весь этот золотой дождь выливается на простых, ни в чем не повинных прохожих. На что, спрашивается, психологи? Сходи к ним, выговорись. Но с психологами говорят о личной жизни, с людьми же хочется поделиться всем, что ты знаешь.
Наверное, каждому знакомо чувство, когда ты приходишь в незнакомое общество, садишься за стол и внимательно слушаешь одного видного говоруна. Должно быть, он обладает авторитетом в этом обществе. Должно быть, даже озвучивает неизбитые мысли. Однако тебе не терпится встать и выйти. Простое человеческое желание, не правда ли? Ну, в туалет захотелось, например. Но такт, воспитание, правила поведения не позволяют. Ты начинаешь отвлекаться, переглядываться, может быть, даже разговаривать с кем-то. И тогда он с важным видом обращается к тебе:
– Неинтересно, что ли?
– Право слово, что вы такое говорите?
– Я говорю о вещах, которые тебе стоило бы знать.
– Да, я понимаю все прекрасно.
– Что, что ты понимаешь?
– Я понимаю, что единственными добродетелями за этим столом являются молчание и смирение.