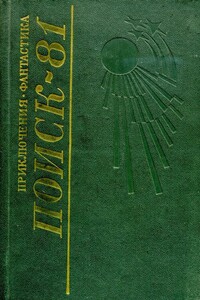Равин сплюнул.
— Идиотка!
Монетки поднялись на ребро и прежним порядком укатились в прихожую.
Мефистофель захохотал.
Равин равнодушно уставился в потолок.
Мефистофель, отсмеявшись, превратился в Червякина и завозился, устраиваясь в кресле поудобнее.
— Продолжим наш разговор, Владислав Львович, вернемся к писательскому труду. Вы — неудачник и в глубине души согласны с этим утверждением. Вы написали серенький рассказ с намеками на ужасы. Вы не сможете его сделать лучше, чем он есть сейчас. Однако, когда в редакции я предложил вам его доработать, вы согласились!
— Жить-то на что-то надо, — вяло отозвался Равин. — Жизнь в материальном мире обязывает.
— Вот именно, — вкрадчиво сказал Червякин. — А для вас жизнь означает поиск самого себя. Вы прекратили этот поиск, занявшись писательством. Следствием чего стало не житье-бытье, а существование.
На кухне зазвенела посуда. Вновь к Червякину прокосолапил карлик.
— Из сказанного мной следует вывод, — продолжил Червякин, дождавшись, когда карлик исчезнет в кухне, — ход событий можно было бы исправить лет пять назад, но теперь поздно: вы не захотите, да и не сможете ничего изменить. Жизнь замерла — вы умерли! Без движения нет жизни!
— Чушь какая-то. Бредятина. Я жив и умирать не собираюсь.
Равин постарался сказать это как можно уверенней, но фраза прозвучала довольно вяло. Последние годы жизни Владислава Львовича были действительно скучны и серы. Пишущая машинка, издательство, редактор, опять машинка. На семинары его не приглашали. С местной писательской братией как-то не сошелся. Критики — и те игнорировали его существование. Да и все остальное — ерунда, однообразные будни. Вот только Светлана…, Или действительно Мефистофель прав — дурак я…
— В ваших мыслях, особенно последней, — неожиданно прервал его раздумья Червякин, — гораздо больше здравого смысла, чем в речах. Вы хотите обмануть себя. А Светлана занята, вы же видели. — Червякин поднял руку и указал на стену. — Еще раз желаете убедиться?
Равин повернул голову. Вновь на стене, как на экране, возник зал ресторана. За столиком у окна сидела Светлана. Рядом с ней заливался хохотом уже другой тип, в тройке, со спортивной прической. Светлана тоже смеялась и, держа в руке фужер с недопитым вином, что-то рассказывала собеседнику.
— Гуляет барышня, веселится по молодости лет, — тоном телекомментатора заговорил Червякин. — Сейчас она рассказывает мальчику о том, что у нее есть знакомый писатель и, возможно, она выйдет за него замуж…
Изображение на стене исчезло. Владислав Львович почувствовал, что его слегка мутит. Он вдруг осознал, до какой степени ему опротивели и книги, и бестолковые скитания по редакциям, и эта квартира, и все, все, все, а теперь даже и Светлана. Ужасно захотелось остаться одному.
— Чего вы хотите? Какого согласия? — произнес он сквозь зубы.
— О-о! Не стоит нервничать. Право — это напрасно. Я хочу одного — вашего согласия стать литературным героем. Речь идет не о тривиальной смене вида деятельности — об изменении способа жизни. Вы будете жить в душах, в мыслях тысяч, миллионов читателей, как Фауст. Автор, благодаря которому данное событие произойдет, действительно талантлив…
— А вам это зачем нужно? — прервал Равин восторженную речь.
— Как зачем?! — удивленно вскинул брови Червякин. — Вы заставляете меня повторяться, Владислав Львович! Ведь подобного хода нет в предписании вашей судьбы. Вам предписано другое, понимаете? Вы должны умереть серым, незаметным человеком, а я хочу все изменить. Если вы согласитесь, мы вместе отпразднуем еще одну победу над ним, предписывающим судьбы. Но сие возможно только с вашего согласия.
— Я не гожусь на роль Фауста, — махнул рукой Владислав Львович.
— Ничего подобного от вас и не требуется. Я прошу лишь вашего согласия на…
— Могу я хотя бы узнать, — нетерпеливо бросил Равин и сел на кровати, — о чем будет рассказ, повесть, Или обо мне напишут роман?
— Это ваше право.
— Только покороче. Я хочу остаться один.
— Это будет описание нашего сегодняшнего вечера.
— Значит, не роман, рассказик… И чем мой сегодняшний вечер закончится?