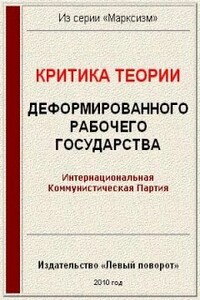Рыцарство, присущее французскому характеру, изысканная вежливость и грациозный благосклонный тон, притворно усваиваемый государями даже при разговорах с теми министрами, отставку которых они только что подписали, все это совершенно отсутствовало у императора. Он притворялся только тогда, когда речь шла об очень важных делах. Проникнутый, несомненно, сознанием своего могущества и своего превосходства, он не давал себе труда притворяться в обыденной жизни и часто даже в более серьезных делах. Часто также он был болтлив. Когда речь шла о делах, он обычно увлекался разговором и говорил больше, чем хотел и должен был бы сказать. Если бы в нем было немного той французской любезности, которая придает нашей стране ее особый колорит, то его обожали бы, и он вскружил бы все головы. Зато у него было прекрасное и редкое качество: он не любил перемен; он дорожил теми людьми, которых подбирал для себя, и предпочитал самый скверный инструмент наилучшему, лишь бы не менять его. Вас не баловали, но зато вы были уверены, что никакая интрига не может погубить вас в его мнении. Правительству было дано направление и твердые правила действия, и так как император правил сам, то судьба министров не могла зависеть от перемены системы. Чем больше на вас нападали перед императором, тем более тщательно он хотел удостовериться в правильности предъявляемых вам обвинений, и тем более упорно он хотел сохранить вас при себе.
- Я сам свой министр, - часто говорил он. - Я сам веду свои дела, а следовательно, я достаточно силен, чтобы извлекать пользу из посредственных людей. Честность, отсутствие болтливости и работоспособность - вот все, чего я требую.
В своем домашнем быту император был чрезвычайно добродушен. С императрицей он обращался, как нежный и любящий супруг. Он довольно долго был очень влюблен в императрицу Жозефину, уже когда женился на ней, и навсегда сохранил привязанность к ней. Он любил превозносить ее изящество и доброту даже после того, как уже давно перестал с ней встречаться. Ни одна женщина не оставила в нем такого глубокого впечатления. По словам императора, она была воплощенной грацией.
Напрасно думают, что у него было много фавориток [307]. Конечно, порою кто-нибудь кружил ему голову, но любовь редко была для него потребностью и, пожалуй, даже редко была для него удовольствием. Он жил слишком на виду у всех, чтобы предаваться удовольствиям, которые, в сущности, мало развлекали его, а к тому же длились не больше мгновения. Впрочем, он был по-настоящему влюблен в течение нескольких дней в мадам Дюшатель. В промежутке между разводом и прибытием эрцгерцогини, чтобы отвлечься от императрицы Жозефины, он для препровождения времени развлекался с мадам Гадзани и мадам Матис. В последние годы жизни с императрицей Жозефиной он заводил связи с мадемуазель Жорж и несколькими другими женщинами отчасти из любопытства, а отчасти, чтобы отомстить за сцены ревности, вызванные его изменами. В Варшаве ему понравилась мадемуазель Валевская. Он имел от нее ребенка и сохранил к ней больше привязанности, чем к какой-либо другой женщине. Но все эти преходящие увлечения никогда не занимали его настолько, чтобы хотя бы на один момент отвлечь от государственных дел.
Он всегда так спешил рассказать о своих успехах, что можно было подумать, будто он гнался за ними только для того, чтобы их разгласить. О своих похождениях он прежде всего рассказывал императрице. Горе красавице, которая уступила ему, не будучи при этом сложена, как Венера Медицейская, ибо его критика не щадила ни одной детали ее фигуры, и он с удовольствием занимался этой критикой в беседах с теми лицами, перед которыми любил хвастать своими успехами. Императрица Жозефина в тот же вечер знала все подробности его победы над мадам***. А на следующий день после первого свидания император рассказывал все подробности мне, не упуская ничего, что могло польстить красавице или задеть ее самолюбие.
Император нуждался в продолжительном сне, но спал только, когда хотел, и притом безразлично - днем или ночью. Предстоявшая назавтра битва никогда не нарушала его сон, и даже во время сражения, если он считал, что оно не может решиться раньше, чем через час или два, он укладывался на своей медвежьей шкуре прямо на земле и спал крепким сном, пока его не будили. Я был свидетелем такого сна во время битвы под Бауценом [308] он спал тогда от 11 [1] / [2] до 1 часа дня. Объехав все позиции, он сказал: