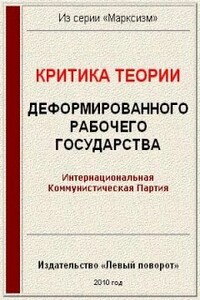Император считал, что отделение испанских колоний от их метрополии[262] является большим событием, которое изменит картину мировой политики, укрепит позиции Америки и меньше чем через десять лет создаст угрозу для английского могущества; это возместит наши потери. Он не сомневался, что Мексика и другие большие заатлантические владения Испании провозгласят свою независимость и образуют одно или два государства с такой формой правления, которая - наряду с их собственными интересами - превратит их в сподвижников Соединенных штатов.
- Это будет новая эра, - говорил он, - она приведет к независимости всех других колоний.
Он считал, что перемены, которые явятся результатом дальнейшего развития этих событий, будут важнейшими переменами нашего века в том смысле, что они направят все торговые интересы по другому пути и изменят, следовательно, политику правительств.
- Все колонии, - говорил он, - последуют примеру Соединенных штатов. Утомительно ожидать приказаний из метрополии, находящейся на расстоянии двух тысяч лье, и повиноваться правительству, которое кажется иностранным, ибо оно находится далеко и неминуемо подчиняет ваши интересы местным интересам, так как оно не может пожертвовать ими ради вас. Как только колонии чувствуют себя достаточно сильными, чтобы сопротивляться, они хотят сбросить с себя иго своих основателей. Родина - там, где люди живут: вы быстро забываете, что вы или ваш отец родились под другим небом. Честолюбие довершает то, что начал делать интерес; хотят быть кое-чем у себя дома, и ярмо вскоре оказывается сброшенным.
Я говорил императору о том впечатлении, которое произведет на остальные народы сопротивление испанской нации, отмечая, что, на мой взгляд, напрасно он не придает никакого значения этому примеру.
Возвращаясь затем к вопросу об испанских делах, император сказал:
- Европейская цивилизация коснулась испанских крестьян еще меньше, чем русских. Конечно, я считал неподходящим такое положение вещей[263], когда династия испанских Бурбонов царствует так близко от моей династии, занявшей трон Людовика XVI. Я часто говорил с Талейраном об этом, как и о многих других вопросах, выдвигаемых на очередь основными интересами мировой политики; однако я не придавал этому пока особенного значения: до такой степени тупость и глупость испанского короля, слушавшегося во всем князя Мира [264] , отнимали, на мой взгляд, у Испании всякую возможность развиваться в том направлении, которое могло бы меня обеспокоить. Я хотел поэтому сделать из Испании лишь полезного союзника против Англии; слабость короля и интересы его фаворита, который должен был стремиться к добрым отношениям с Францией, слишком хорошо служили моим политическим целям, чтобы я стал думать о чем-нибудь другом; но внезапно фаворит, побужденный ропотом надменной кастильской знати и оскорбленный какими-то выражениями или какими-то неловкими шагами наших дипломатических агентов, счел момент подходящим, чтобы вновь завоевать уважение испанцев, обратившись к ним с воззванием против меня, в то время как его упрекали, что он продался мне. Дурак! Боясь потерять свое положение из-за поднявшегося против него всеобщего ропота, он вообразил, что спасет себя, если будет разжигать проявляемое нацией недовольство против Франции, и в заключение он погубил Испанию, чтобы спасти себя. Я в свою очередь потерял Испанию из-за Мюрата, который хотел спасти фаворита; дело в том, что во время мадридского восстания[265] нация была враждебно настроена только против Годоя; на нас стали смотреть, как на врагов, лишь потому, что Мюрат, желая его спасти, этим неловким поступком внушил нации мысль, которую уже распространяли неблагожелательные к нам люди, а именно мысль о том, что Годой делился с нами или мы с ним.
Император напомнил при этом дерзкую прокламацию князя Мира к испанцам (от 3 октября 1806 г.)[266].
- Политический курс фаворита, - сказал император, - еще до Иены казался мне немного подозрительным. Я мог бы видеть, что он является абсолютно подозрительным, если бы мой тамошний посол[267] был толковым человеком и осведомлял бы меня о том, что происходит в Испании. Но мне служили плохо. Я был изумлен, когда встретил в испанском правительстве оппозицию, к которой я не привык, и стал остерегаться; эта перемена побудила меня даже стремиться уладить разногласия, возникшие между нами и Пруссией, тогда как если бы не это, я с полнейшей готовностью поднял бы перчатку, которую прусский двор бросил мне так некстати для него. Я хорошо видел, что испанская нация немного недовольна, но я думал, что оскорблено только се самолюбие, и рассчитывал дать ей впоследствии удовлетворение; признаюсь, я был далек от мысли, что объявление мне войны будет исходить от фаворита. Я считал, что у него лучшие советники.