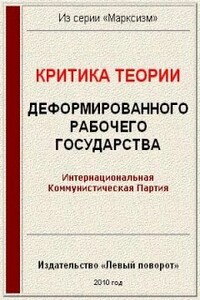После этого император заговорил о своей поездке во Францию, как о деле решенном, и сказал мне, что я буду сопровождать его и другого телохранителя ему не надо.
Теперь император мечтал занять позиции за Березиной, считая, что минские склады дадут ему возможность вновь собрать и прокормить армию.
- Через несколько дней, - сказал он мне, - отступление будут прикрывать корпуса герцогов Реджио и Беллюнского; солдаты московской армии разместятся во второй линии, и мы соберем отставших.
Сообщения из Франции по-прежнему не получались. Это было самым чувствительным лишением для императора, который уже не надеялся, что польским офицерам и посланным в Вильно людям удалось передать, а герцогу Бассано удалось направить его сообщения во Францию и успокоить ее. Император понимал все неприятные стороны этого молчания, и это еще усугубляло беспокойные размышления, на которые наводили его полученные им известия. Расстройство и дезорганизация дошли до такой степени, что я отнюдь не разделял его надежд на возможность сосредоточить армию под Вильно, не говоря уже о том, что новые события могли помешать принятию нужных мер. Что касается императора, то, если не считать беспокойства, вызванного появлением Чичагова, он уже видел, как его армия выстраивается на позициях, едва только он соединится с корпусами, стоящими на Двине.
22-го мы были в Толочине; император остановился в здании, которое было чем-то вроде монастыря. Там, в Толочине, он узнал об эвакуации нашими войсками Минска, который был занят 16-го авангардом адмирала Чичагова под командованием генерала Ламберта. Император, потеряв вместе с Минском все свои склады, все средства, с помощью которых он после Смоленска рассчитывал вновь собрать и реорганизовать армию, на один момент был ошеломлен этим известием. Он не только терял все те ресурсы, на которые возлагал свои надежды, но перед ним еще выяснилась тревожная картина положения: молдавская армия, быть может, уже соединилась с корпусами, находящимися в нашем тылу, а не была подтянута Кутузовым к главным русским силам на нашем фланге, как все время надеялся император.
Император, стальная воля которого лишь еще больше закалялась при виде стольких препятствий и, можно сказать, стольких опасностей, тотчас же решил ускорить свое передвижение, подоспеть, если это окажется возможным, к Березине раньше Кутузова, сражаться и одержать победу над всеми, кто встретится на его пути. Вместе с тем он питал тешившие его и обещавшие выход из положения надежды, лелея мечту, что князь Шварценберг и Рейнье [224], узнав о потере нами Минска, уже выступили и изменили положение. Во всяком случае он считал, что сосредоточение под Борисовом тех войск, которыми он располагал в этом районе и которые, наверное, в связи с происходящими событиями собрались там вместе, надежным образом обеспечивает отступление армии, которое теперь нельзя прерывать вплоть до Вильно. Он был уверен, что борисовский мост находится под крепкой охраной. Этот мост был важным пунктом. Уже давно император приказал привести его в оборонительное состояние, держал там войска, и, судя по тому, что он соблаговолил говорить мне, а также князю Невшательскому, он думал, что может рассчитывать на этот пункт.
Вечером, когда император лег в постель, он оставил у себя, как это часто бывало, графа Дарю и Дюрока, чтобы поболтать с ними; он задремал, а Дарю и Дюрок стали разговаривать между собой, ожидая, пока император окончательно заснет и можно будет удалиться. Через четверть часа император проснулся и спросил их, о чем они говорят.
- Мы мечтали о воздушном шаре, - ответил Дарю.
- Для чего?
- Чтобы увезти ваше величество.
- Да, положение довольно трудное. Вы, значит, боитесь попасть под замок в качестве военнопленных?
- Нет, не военнопленных, потому что вашему величеству такой хорошей участи не предоставят.
- Положение действительно серьезно. Вопрос осложняется. И все же если начальники подадут пример, то я все еще буду сильнее, чем неприятель. У меня больше, чем нужно, сил, для того чтобы пройти по трупам русских, если единственным препятствием будут их войска.