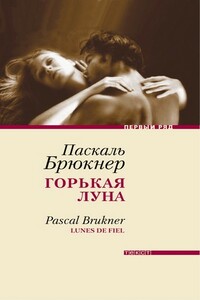Похитители красоты - страница 75
Идиллия продлилась неделю; о своих обязанностях мой слуга начисто забыл. Его пассию звали Мариной; он был ее капризом: ей взбрела фантазия попробовать карлика, переспать с человеком-фаллосом. Захотела игрушку и получила. Она клялась ему, что у нее никогда не было такого любовника, — тут она не врала. Раймон же из этого заключил, что нравится ей, — но он ошибался.
Девица им просто попользовалась, а он, простак, раскатал губы. Как те бедняки, что, сорвав куш в лотерею, теряют рассудок, мой приапчик совсем разума лишился от Марины. И неудивительно: женщина давным-давно была для него чем-то вроде далекого Китая, о котором он мог только мечтать. Оттого что одна из них, да еще какая, положила на него глаз, он весь завибрировал, а оттого что она сама выбрала его в дансинге и чуть ли не силком утащила, просто спятил. Раймон кинулся очертя голову в пламя, имя которому — женщина, и разговенье после долгого поста ударило ему в голову. Наконец-то он сравнялся со своим хозяином в том, в чем тот всегда мог дать ему сто очков вперед. Буйство плоти подействовало на него, как солнечный свет на долго пробывшего в шахте человека. Он ослеп, ошалел и совсем потерял волю. Дома появлялся ненадолго, только переодеться и помыться, успевал купить кое-что, состряпать на скорую руку, позвонить Стейнеру и наврать ему с три короба. Меня он умолял помочь выбрать костюм, причесаться, пригладить жесткий, как щетка трубочиста, ежик волос. Уходя, спрашивал, не пахнет ли у него изо рта, задаривал меня подарками. Изредка откровенничал со мной, живописал, облизываясь, как не пробовавший женщины мальчишка, прелести своей любовницы, рассказывал, что она выделывает в постели. В такие минуты лицо его расплывалось от похоти, и мне приходили на ум жабы, которые раздуваются вдвое, когда поют брачную песню.
Марина быстро смекнула, что Раймон рожден прислуживать; она заставляла его делать все по дому, готовить и только после этого допускала к телу. Воображаю, как карлик-субретка в одних кальсонах и носках, повязав передник, шуровал пылесосом, драил ванну, усердствовал в предвкушении награды. Но на седьмой день к вечеру красавица дала ему отставку. Наигралась и бросила, просто сказала, чтобы он больше не приходил. Жизнь для него утратила смысл, как будто Бог сперва осенил его своей благодатью, а потом оставил.
Отвергнутый гном стал еще безобразнее, просто смотреть было страшно. Он никак не мог поверить в случившееся. Удар был особенно жесток от того, что все произошло слишком быстро — еще вчера он был на коне, а сегодня потерял все; Раймона это сломило. Как он ни пытался вернуть благосклонность любовницы, та и знать его не желала. Он был раздавлен, не ел, не спал, бродил, как тень, стал заговариваться. Целыми днями кружил вокруг телефона, все ждал, что она позвонит, попросит прощения, вновь призовет в свои объятия. Ходил он нечесаный, небритый, то и дело прикладывался к бутылке, от него попахивало перегаром — в общем, совсем потерял человеческий облик. Пуще всего он теперь боялся хозяйского гнева, все канючил, мол, поклянитесь, что ничего не скажете. Он был у меня в руках, я мог бы запросто выторговать свободу, но и на этот раз проморгал свой шанс. Его нытье мне осточертело, работу он совсем забросил, дом запустил, кормил меня недожаренной или пересоленной дрянью, когда вообще находил в себе силы что-нибудь приготовить. Я не выдержал, тайком позвонил Жерому и выложил все про его слугу. Хозяин ничего не подозревал; новость его огорошила. Я удостоился слов благодарности: он знал, что на меня можно положиться.
Долго ждать не пришлось. В ту же ночь, около часу, в Париж прикатила Франческа — всю дорогу от Безансона мчалась на предельной скорости. Она застала Раймона в гостиной — в одних трусах, пьяный, он тупо таращился в телевизор. При виде ее он затрясся: то был Командор, явившийся покарать преступившего закон. Хозяйка с ослушником не церемонилась, с размаху влепила ему пощечину, схватив за волосы, уволокла в другую комнату и заперлась с ним там. Всю ночь до меня доносились приглушенные отзвуки рыданий и криков. Я почти не спал, а ранним утром обнаружил Стейнершу в кресле в гостиной перед полной окурков пепельницей и наполовину опустошенной бутылкой джина. Она пожелтела, лицо стало как слоновая кость; сидела, съежившись в старенькой парке, и ее бил озноб — должно быть, переусердствовала в мордобое и воплях. Провинившегося слугу она заперла в спальне.