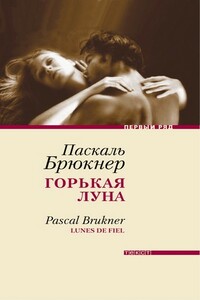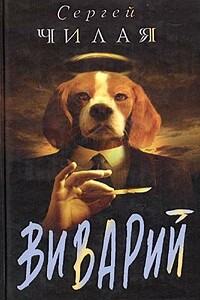Когда выдалась минутка затишья, меня замутило: я ничего не ела с утра. На работу я хожу без макияжа — здесь это ни к чему, — и тут мне почему-то неудержимо захотелось накраситься. Но напрасно я накладывала слоями румяна и наносила разноцветные мазки теней. Смотрела в зеркало — все едино: бесцветная, никакая. С моим лицом вообще сладу нет: иной раз забываешь о нем, и вдруг глядь — будто солнышко взошло, а порой за ним вроде бы и следишь, а толку никакого — все равно помятое, уныло вытянутое. Я сбежала во двор; дышать было нечем, собиралась гроза. Машины подъезжали одна за другой — то «скорая», то полиция. Я была безутешна: Бенжамен ушел и некому досказать мне историю.
Чтобы хоть немного приободриться, я позвонила Аиде — за ней взялась присмотреть соседка, пока служба по делам несовершеннолетних не решит ее судьбу. Девчушка была единственным светлым пятном в моей жизни за эти три дня. По голосу я поняла, что ей страшно. Она спрашивала о бабушке; мне нечем было ее порадовать: почтенной даме с симптомами первой стадии старческого слабоумия, осложненного двигательными расстройствами, предстояло доживать свой век в клинике. Обнаружились и сложности иного порядка: у мадам Бельдье — так звали бабушку — не оказалось ни гроша за душой, ее квартира в Марэ была заложена и перезаложена. С головой у старушки давно было не в порядке, и это ускорило разорение. Ее имущество со дня на день должны были описать. Аида, которую я знала неполные сутки, в одночасье стала круглой сиротой без средств к существованию. Никакой родни у девочки не было, очевидно, ее ждал приют. Прошлой ночью она явилась мне маленьким чудом посреди душного августа, а теперь рыдала в трубку и просила вернуть ей бабулю. В медицине — как, впрочем, и во всем остальном — всегда находятся больные, которым отдаешь предпочтение, но сейчас я так вымоталась, что была неспособна сострадать. Я постарела лет на двести, и вообще, благотворительность — это не мое призвание. Прости, Аида, не надо плакать, я ничем не могу тебе помочь. Пообещав навестить ее завтра, я повесила трубку.
К полуночи стало еще тяжелее. Приемный покой гудел как улей. Голодного вида доходяги, пролетевшие мимо денег шлюшки-соплюшки плевались накопившимся ядом и на все корки честили полицейских. До жути худой наркоман орал своей спутнице, девчонке с черными зубами: «Я тебя… и в рот, и в зад, прошмандовка!» — то ли упрашивая ее, то ли угрожая. Мельтешили подонки общества, влачащие жалкое подобие жизни, и те, кому досталось в драке, нагоняли страху на остальных, выставляя напоказ гнойные раны. Семерых молоденьких китайцев привели в наручниках на рентген: они будто бы проглотили упакованный в презервативы героин. За оградой, на паперти собора Парижской Богоматери, облепила скамейку компания ночных бабочек в простое, а напротив отвратительно грязный старик, едва прикрытый лохмотьями, обращался с речью к человечеству. Разбитная бабенка отплясывала вокруг него, задрав юбку и размахивая грязным, почти черным бинтом. Полицейским — знакомые лица, они еще вечером упрятали какого-то бродягу с пулевым ранением в тюремное отделение больницы — почудился в этой похабщине крамольный душок, и они усилили бдительность. Красные и синие лучи мигалок обшаривали больничный двор, штатские в плащах шастали по коридорам, бормоча что-то в рации, которые отзывались треском и хрипом.
Мне, наверно, одной из немногих, ничуть не было страшно. Вот чем хороши сильные потрясения: они притупляют обычные эмоции, на их фоне выглядит смешным то, что прочих смертных повергает в ужас. Наоборот, я ликовала: раз мне плохо, пусть будет плохо и всем вокруг. Да скажи мне сейчас, что вырвавшиеся на волю психи поливают больных бензином, чтобы сжечь заживо, или выпускают кишки врачам и санитарам, я бы и глазом не моргнула. Скорее присоединилась бы к психам. В довершение всего около часу ночи поступили четыре проститутки, пострадавшие в стычке с мадридскими фанатами какой-то футбольной команды. Ввалились, гордые собой, громко цокая каблуками, все в порезах и синяках. Они не сплоховали в драке, обратили своих противников в бегство, пустив в ход велосипедные цепи и вибраторы, набитые свинцовыми шариками. Их задницы были туго обтянуты коротенькими шортами, пышные груди упруго колыхались, словно белесое желе; они выглядели даже не женщинами, а непреклонными идолами, этакие гиганты секса, способные опустошить жертву до донышка одним движением ягодиц. Я смотрела на них не без восхищения, спрашивая себя, а что бы мне в свое время не выбрать эту стезю, что бы мне не стать подстилкой, пропитанной спермой, на которой мужчины, вне зависимости от возраста и общественного положения, сладострастно похрюкивая, утоляют свою плоть? Стражи порядка с автоматами наперевес и те казались безоружными перед этими труженицами на ниве греха, торгующими облегчением по сходной цене. Перевязанные, отмытые и зашитые, девушки еще посидели с медсестрами, выпили по стаканчику, покуривая американские сигареты в длинных перламутровых мундштуках и громко смеясь, после чего отбыли на работу.