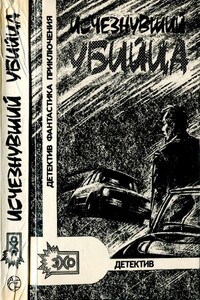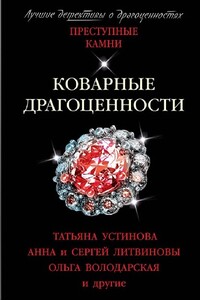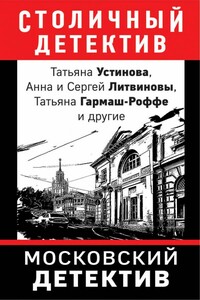— «Порядок! В укоме сказали: к утру лошадь будет!?
(Тревога, душная тревога).
— «Протасенко, вы сможете дойти до телеги?» (Как странно идти по земле! Земля, будто прогибается под ногами, все вкривь–вкось, ха–ха–ха–ха!)
— «Что со мной?»
— «Жар. Потерпите. Приедем на место. Найдем фельдшера…»
— «До Алексина далеко?»
— «Вот чудак! Вы же в Алексине своими еще ногами ходили! Мы уже в Березняках, в имении Боярского».
…Ходят туда–сюда, громыхают табуретками, пыхтят, снимая сапоги, тыкают горячей кружкой в губы, в зубы, — день и ночь, день и ночь! Керосиновую лампу — от которой в глазах резь неимоверная! — то зажигают, то гасят, то гасят, то зажигают.
Ухают, фыкают, харкают, крякают: «Фф–фу! Ну и мороз!», «Ух, кипяточек, как славно!» — развеселые, скрипучие, а половицы под ними так и прогибаются.
— Протасенко! Подпоручик! Ну, проснитесь же! Вы не помните, когда у Боярского умер сын?
— Отстаньте! Что вы надо мной издеваетесь? В Париже его сын! В Париже!
Опять трясут за плечо. «О, господи!»
— Протасенко! Это точно, что сын Боярского в Париже? Это очень важно.
— В Париже, в Париже, в Париже…
В один из вечеров Протасенко очнулся. За столом, низко склонясь к скатерти, сидели его спутники. Вполголоса разговаривали.
— Вот здесь, где я поставил крестик. Могила без ограды. У троих переспрашивал — ошибки быть не может.
— Ну и отлично. Завтра с утра и начнем.
— Я считаю так, товарищ Федоров, что это есть политически неверно. Большевики сквернят, как это сказать, прах умерших! Будет много ненужных революции разговоров.
— Мда… Я об этом не думал. Хорошо! Завтра, Митя, гони в уезд, проси в чека трех человек, желательно партийных, проверенных. К вечеру. За ночь вшестером, я думаю, управимся.
Федоров вдруг оглянулся в угол, где стояла кровать Протасенко.
Подпоручик быстро закрыл глаза. Сердце его принялось гулко и торжественно колотиться. «Все! Теперь все ясно до конца!»
И он застонал от едкого позора и бессилия.
Рядом оказался Федоров:
— Что вам, подпоручик? Может, пить?
— Пить.
Лязгал зубами, по железу ковша. Руки дрожали.
— Как вы себя чувствуете?
Упал на подушку, закрыл глаза:
— Не знаю… Плохо…
«Моя шинель висит возле двери. Наган должен быть там».
Сначала заснул латыш: едва, казалось, прислонил голову и тут же начал, кратко всхрапывать, будто похрюкивать.
Тот, кого Федоров называл Митей, долго ворочался, недовольно бормотал что–то, наконец задышал ровно, глубоко, покойно.
Федорова будто и не было в избе. Прошло не меньше часа, прежде чем Протасенко услышал сонное, детское причмокивание со стороны его постели.
«Федорова — первым. В упор. С остальными — как получится. Мне все равно живым не уйти отсюда».
Он осторожно сполз с кровати. «Какая же все–таки слабость!» — пол ходуном пошел под ногами. Он встал на четвереньки, чтобы не упасть. Пополз к дверям.
По половицам дуло. Он стал подниматься, держась за притолоку, изо всех сил сдерживал рвущееся из груди дыхание.
Нащупал родную рубчатую рукоять нагана и стал счастлив. «Федорова — первым. В упор».
Осторожно выпутал оружие из складок кармана, и тут чья–то железная злая рука сдавила ему запястье. Наган грохнул об пол.
— Ты что ж это, контрик, придумал? — шепотом спросил Митя и, бесцеремонно схватив в охапку, оттащил Протасенко назад, на постель. Бросил тай, что зазвенели пружины.
— Что? — спросонья крикнул Федоров. — Кто здесь?
Зажгли свет. Протасенко отвернулся к стене и вдруг заплакал, как завыл.
На следующую ночь из могилы, где покоился «сын» Боярского, похороненный отцом три месяца назад, был извлечен гроб. Его вскрыли тут же, на кладбище. В грубом джутовом мешке что–то металлически брякало. Мешок вспороли, и в Лунном свете красным, синим, зеленым огнем брызнула драгоценная россыпь.