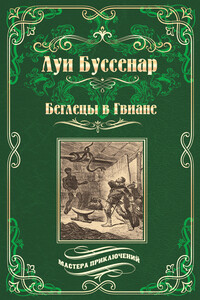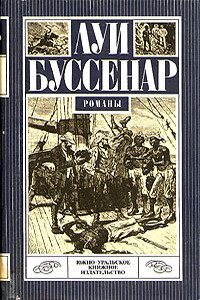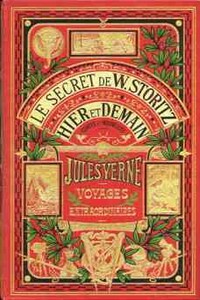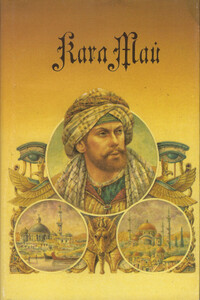— Заладил одно и то же — «не» да «не!». Понимаешь, мне хотят сделать чик-чик?
И она провела рукой под подбородком, показывая, что ей ножом перережут горло. Ли энергично замотал головой в знак отрицания и пронзительно крикнул:
— Не!.. не!.. не чик-чик Фалликет, не чик-чик!
— Говорю тебе, что все точно так и есть! Меня хотят убить эти ужасные люди, которых здесь зовут тогакутами. Теперь понимаешь?.. Они точат свои ножи против меня, против нас… Этот каламбур понравился бы отцу Шарпантье, но все это не слишком весело!
Фрикет улыбнулась, и Ли немного успокоился, слушая поток слов, которые обрушила на него его милая спасительница. Она прижала мальчика к себе и горячо поцеловала. В глазах ее блеснули слезы:
— Малыш, понимаешь, нельзя мне тут оставаться, не удерживай меня! Я должна ехать. Мне грустно тебя покидать, я уже успела полюбить тебя. Тебе было плохо, ты страдал, а мы, женщины, всегда сочувствуем несчастным и привязываемся к ним всей душой… Мы испытываем то, что чувствуют матери и сестры… И ты, у которого нет ни матери, ни сестры, ты меня любишь… Ты — мое самое лучшее воспоминание о днях, проведенных в Корее. Прощай, милый мой мальчик…
Фрикет была взволнованна, говорила тихо и очень быстро, и Ли не понял га единого слова, но нежный голос, ласковая интонация успокоили его. Он крепко поцеловал ее в последний раз и вернулся к своей гвардии, а француженка, вытирая слезы, вернулась домой и начала собираться в дорогу. Она решила уехать потихоньку, не прощаясь, чтобы избежать новых тяжелых сцен при расставании.
В три часа к ней пришел старик миссионер и с ним целая группа людей — десять носильщиков с двумя носилками и полтора десятка солдат, отобранных среди верных людей.
— Мы уезжаем, дитя мое, — проговорил кюре.
— Я готова, — отвечала Фрикет, — и благодарю вас за…
— Не стоит благодарности, — остановил ее священник, — я рад помочь вам.
— А почему два паланкина? — удивилась Фрикет.
— Потому что я буду сопровождать вас до Чемульпо.
— Как вы добры!
— Снова вы за свое!.. Лучше поскорей садитесь, у нас мало времени.
Старик и девушка забрались каждый в свой паланкин, носильщики взялись за ручки, и вся процессия устремилась к Южным воротам. Фрикет не страшилась смерти, когда можно было взглянуть ей прямо в лицо, но неизвестная опасность, скрытая западня, коварство врагов пугали ее. Храбрость ее нуждалась в солнце и свете и пропадала во мраке и темноте. Вот почему у девушки вырвался вздох облегчения, когда их носилки оказались возле ворот.
— Ах, какое счастье, я спасена! — радовалась Фрикет, воображая, что скоро окажется на свободе.
Бедняжка не знала, как далек может быть путь на волю.
Кортеж остановился. Послали гонца разузнать, в чем дело, он вернулся с печальным известием: ворота заперты по приказу короля, и начальник стражи не хочет их открывать.
Миссионеру пришлось выйти из паланкина и начать переговоры. Ему помогала Фрикет, которая страшно расстроилась и стала упрашивать, умолять, угрожать!.. Увы, все напрасно, стражник был неумолим: приказ есть приказ.
— Я рискую головой, если отопру ворота. Вы ведь не хотите, чтобы мне отрубили голову?
Король, отдавая подобный приказ, видимо, думал о собственной безопасности: в закрытом городе он чувствовал себя как человек, который забаррикадировал все окна и двери в своем жилище. Потеряв голову от страха, он надеялся защититься таким способом от внешних врагов, забывая, что среди двухсот тысяч жителей Сеула наверняка находились и самые главные заговорщики и их подручные.
Итак, неудачливые беглецы вернулись. Священник вновь очутился в своем домике в виде пагоды, а француженка — в своем дворце.
Наступила ночь. Фрикет, которую при мысли о тогакутах обуревал страх, повела себя совсем как несчастный король: заперлась на все засовы.
«В конце концов, — думала она, — ночь скоро пройдет, наступит завтрашний день, и я добьюсь от Ли Уи разрешения на выезд из города».
На следующий день весь Сеул пришел в движение. Люди сновали туда-сюда, окликали друг друга, собирались и расходились. С невероятной быстротой распространялись ужасные слухи. Говорили даже, что король убит.