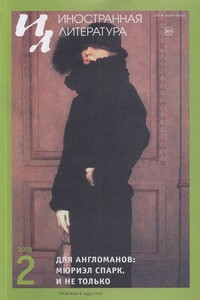«Петр Кириллович!» Да, это был русский, а не английский, я смотрел на улыбающееся юное лицо, обрамленное черно-белой пандой, меховые ушки на макушке, и ничего не понимал. «Это я, Юля, Сюин, аспирантка. Вы нам рассказывали о Каламземе». «Карамзине», – автоматически поправил я, привык, с разницей между «м» и «н» они как-то справляются, но вот уже «д» и «т» совсем сложно, а «р»/«л» и вовсе. Нет звука «р» в китайском. Я привык. Даже научился не вздрагивать, когда какое-нибудь милое создание говорило: «Можно вам посрать свою работу?» Конечно, можно. На детей не сердятся. Да-да, Карамзин, «Письма русского путешественника», аспирантки, Юля, вспомнил. Никогда не знал ее китайского имени. «Здравствуйте, Юля, вот уж не ожидал! Как вы здесь оказались? – тоже привык составлять фразы из пособия по разговорной речи, каждое слово отдельно, медленно, никаких вольностей. Мама мыла раму. – Вы тоже едете на этом поезде?» Пауза, в чужой голове перебираются чужие слова, выстраиваются в правильную последовательность. «Да! Я же выиграла конкурс! Еду на год в Московский университет! Родители были рады! Подарили мне эту поездку!» Ну вот, этого еще не хватало, хотел же мизантропически промолчать семнадцать дней, наблюдать нравы, читать, спать, думать. Завершить китайское приключение эксцентричным жестом колониалистской британской свиньи. Детский сад – за спиной, никаких больше уроков, медленных речей, исправлений, перепачканных мелом рук, участливой улыбки при внимании рассказам о родителях, вышедших на пенсию или занимающихся бизнесом, о младших – непременно младших – сестрах и братьях. О поездках к бабушке в деревню, о разнице между пекинской и сычуаньской кухней, о том, что да, книги люблю читать, прочла в прошлом году одну, не помню автора, роман, о жизни, грустный. Из детства – в старость, из будущего – в прошлое, из Китая – в Европу. Таков финальный аккорд, за который я выложил кучу юаней. И вот на тебе.
«А вы?» Я начал было излагать сокращенную версию истории того, как оказался на этой платформе в шесть часов тридцать минут утра пятнадцатого февраля две тысячи восемнадцатого года, но вдруг за моей спиной громко произнесли «еб твою мать». Только привычка, приобретенная столькими годами жизни за пределами ареала распространения сего восклицания, позволила мне не моргнуть глазом, но я замолчал – из мелкой боязни быть опознанным соотечественником с последующими мучениями в пути до Москвы, а то и до Лондона. «Юля, давайте устроим небольшие каникулы, раз оба мы на каникулах. Мы говорили на русском, пока я вас всех учил. Вам придется говорить только на русском в Москве целый год. Пока же перейдем на английский, хорошо? Я помню, вы мне говорили, что вообще-то русский не любите, с детства учили английский, но пришлось поступить на русское отделение университета, так как на другие не хватило баллов». Интонация детского сада не отпускала меня, но здесь добавилось то, что в этом универсальном наречии я сам был воспитанник, а не воспитатель. Заодно и спущусь с профессорской кафедры в нормальную жизнь, где все мы говорим на чужом языке. Аспирантка вздохнула с облегчением. «Конечно!» Кажется, я попал в точку. «И давайте, раз не на русском, будем называться соответствующим образом. Я без отчества, а вы – Сюин, ОК?» – «ОК».
Только сейчас я решил обернуться, тем более что матерные причитания продолжались, негромко, кто-то с чем-то возился сзади меня, пыхтел и даже задел мою ногу. Хороший повод обернуться. «Сорри!» – с отчетливым рррраскатом каркнул человек в аккуратной черной курточке с волосатым воротником. Он вообще был аккуратным, как я успел разглядеть его в сером свете платформы, – черные брючки, ботиночки с длинными, немного загнутыми вверх носками, меховая кепка. Чистенькое, новенькое. Да и сам он был будто промыт изнутри дезинфицирующим раствором, отчего антураж слегка выцвел. Лет тридцать, юный чиновник или предводитель губернских единороссов. Типаж знакомый. Один из тех, для кого я выправлял русский перевод почетных грамот и бизнес-брошюр. Так сказать, мой читатель. Прослезиться можно. А он все собирал свалившиеся с тележки сумки, приговаривая «блядьнахуйчуркиебаныенихуясделатьнемогутуродыгдеблядьносильщикиэкспрессхуевнихуянетнаебалово», а я уже отводил китайское дитя, дабы уберечь от неприличностей, столь, увы, часто уснащающих речи носителей языка Толстого и Ахматовой. Нет, Лев Николаевич и Анна Андреевна горазды были поматериться – тогда языка Карамзина и Набокова, за этих я уверен. Но она так и не поняла, приняв длинный монолог человека на карачках за что-то общечужое, невычленяемое. Меж тем подали состав, и дверь вагона открылась. Вышли две девушки в красных мундирчиках, белых блузках, красных юбочках, к прическе приколоты круглые шапочки, я решил было, что это проводницы, но тут они запели, разводя руками и легко покачивая головками направо-налево, как фарфоровые куколки. Все на платформе вдруг замолчали и стали медленно придвигаться к двери. Вот певицы вышли из вагона, встали справа и слева у входа, а оттуда появился грузный человек в двубортном пиджаке, галстуке, широченных брюках и круглых очках. Похож он был на условного китайского писателя образца 1933 года, жил в Шанхае, потом переехал в столицу, в Нанкин, печатался в прогрессивном издательстве «Меж двух рек», арестовывался гоминьдановцами в связи с левыми убеждениями, но повезло, не убили, не пытали, бежал в Пекин, там его застигли японцы, просидел всю войну в полуподполье, голодал, сочинял длинный роман о судьбе двух китайских семей от времен «реформ ста дней» до нынешних, с открытым финалом. Финал – его персональный – был открыт еще довольно долго, до 1968-го, когда его, члена Союза китайских писателей, почтенного деятеля культуры, не схватили на улице хунвэйбины, раздели догола, бросили в выгребную яму, откуда он все же сумел выбраться, добрести до своего дома, благо была ночь, потом старик долго отмывал тело, пока, наконец, даже след запаха не исчез, после чего он надел лучший свой костюм, белую рубашку, нащупал в ящике стола запасные круглые очки, обычные растоптали юные мерзавцы, достал из лакированного резного буфета времен тайпинского восстания припрятанную там бутылочку байдзю, выпил стаканчик, вышел из квартиры, тщательно запер за собой дверь, твердым шагом пересек двор своего дома, миновал ворота, на другую сторону улицы, вниз по ней, медленно, уверенно, будто прогуливаясь, минут двадцать, мимо дома Сун Цинлин, он хорошо помнил товарища Сун, встречал на каких-то приемах и съездах, одно время печатался в ее журнале «Китай на стройке», но нынче это уже неважно, до набережной озера Хоухай и потом в воду, чтобы окончательно и навсегда отмыть это все.