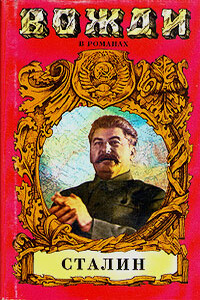В ту же пятницу Крыся давала концерт в Летнем театре в Ogrodzie Saskim. Было открытие сезона, как всегда, ее выступления шли при полном аншлаге. «Ах, наша Варшава — второй Париж!» — стоя за кулисами и наблюдая за «очаровательной примадонной всеевропейского калибра», Юзеф вспомнил эти слова дирижера Ставиньского. «Да, сердце Польши, красавица, как прекрасны твои бульвары и парки, твои памятники и костелы! А эти прелестные пани и паненки, эти блестящие ожерелья и кольца, эти восхитительные наряды и прически!» Он подумал о богатых магазинах, где вся эта роскошь в изобилии — ювелирных, меховых, антикварных. Стоп — мысль зацепилась за какое-то воспоминание. Лавки, пассажи, магазины… Вот оно, ну как же, конечно, антикварный магазин в Иерусалимских аллеях; его владелец Зденек Богуславский (клички Нерон, Душка и Винт), один из немногих агентов, доставшихся ЧК от империи, недавно перевербован и стал двойником. Он доносил, что ожидает связника из центра. Не к нему ли пожалуют дипкурьеры?
В субботу был разработан план операции «Дебют». Решающая роль в ней отводилась Рыси, которую должен был вывести на русских Богуславский, представив ее как ярую почитательницу красной России. Это будет выглядеть так естественно, так подкупающе — известная, с европейским именем певица тайно симпатизирует власти рабочих и крестьян, восхищается отважным, гигантским экспериментом огромной страны. Как и многие известные ученые, артисты, художники, писатели Старого и Нового Света. Только бы вышли эти липы на Зденека, а не на кого другого. Конечно, их возьмут под наблюдение уже в поезде — как только поезд прибудет в Столбцы — и будут пасти все время их пребывания в Польше. И, похоже, осечки быть не должно. В объективке на Сергея, которую готовил польский агент в центральном аппарате НКВД, бесстрастно отмечалось: «Холост. Сильные стороны: умен; хитер; склонен к принятию неординарных решений. Слабые стороны: идеологический фанатик; легко идет на сближение с женщинами».
…Впервые в жизни Сергей путешествовал в международном вагоне. Они с напарником занимали два смежных купе, с общим туалетом и душем. Разместив мешки с диппочтой в отсеке для багажа, Сергей с удовольствием плюхнулся на бархатный диван.
— Блеск! — Он обвел взглядом надраенные до блеска медные ручки и полки, тяжелые бархатные портьеры в тон дивану и креслам, стены и двери из красного дерева. — Вот так будет путешествовать лет через десять каждый гражданин Советского Союза!
— Совершенно излишняя роскошь! — отозвался из своего купе Игнат Савельич.
— А как же слова Ильича о нужниках из золота?
— Я думаю, пока в обозримом будущем золото нам будет нужно совсем для других целей.
— Каких же? — Сергей прекрасно понимал, что ему ответит напарник, но у него было отличное расположение духа и хотелось чуточку подурачиться.
— Строительство заводов, электростанций, армии. — Игнат Савельич ответил спокойно, заглянул в купе Сергея и долго смотрел на него. Уловив его настроение, рассмеялся.
— В таких вагонах я до революции исколесил всю Европу. Удобно, приятно. Не скажу, что всякий раз, но частенько я вспоминал о голодном русском мужике. И мне становилось не по себе. И я проклинал всяческую роскошь и всех, кто в ней купался за счет этого самого мужика.
В Столбцах поезд стоял довольно долго. Когда тщательнейшая проверка паспортов была наконец завершена, Сергей встал с дивана, сладко потянулся и сказал:
— Пойти в вокзальный буфет заглянуть, что ли? А то мы и чай пьем, и перекусываем в этих клетушках, как бирюки-хуторяне.
— Думать не моги! — отрезал Игнат Савельич. — Ты что — забыл инструкцию? Выход куда бы то ни было только вдвоем. А куда мы с тобой можем выйти, когда диппочта при нас?
Сергей сел, стал смотреть в окно. По платформе прогуливались нарядные пары, мимо окна проплывали причудливые прически и кокетливые шляпки дам, котелки и кепи кавалеров. Приглушенно доносились смех, отдельные фразы. «Ничего, дядька Игнат, — думал добродушно Сергей, — погоди, приедем в Варшаву, там тебе расскажут, что на всякую инструкцию бывает своя особая конструкция». Рифмовка эта получилась непроизвольно, и так же непроизвольно он ей улыбнулся. Игнат же Савельич истолковал ее по-своему: