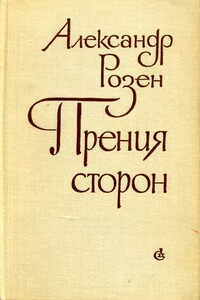Когда стояли в обороне, Абатуров часто вызывал к себе лейтенанта, и они играли в шахматы или просто разговаривали.
Сейчас, во время наступления, было не до разговоров. Но, быть может, более чем когда-либо Абатуров чувствовал потребность поговорить, поделиться новыми мыслями.
Падал снег, оседая на землю рыхлыми мокрыми хлопьями. Желтые проталины расползались под ногами.
— Называется январь! — заметил Бухарцев. — Война действует на природу, — добавил он глубокомысленно.
Они шли по редкому, сильно вырубленному лесу. Вчера батальон Абатурова, обойдя гитлеровцев с юга, выбил их отсюда. Они бежали в Грачи — давно укрепленный ими поселок с сильным гарнизоном. Но два других батальона, наступавшие на Грачи с северо-запада и с востока, замкнули кольцо вокруг гитлеровцев.
Выйдя на проселочную дорогу, круто поднимавшуюся вверх к Грачам, Абатуров остановился и закурил. Там, на горушке, уже сгустились сумерки, и казалось, что серая пелена медленно спускается вниз по дороге. Очертаний домов не было видно, но Абатуров угадывал вдали и большое двухэтажное здание — бывший дом отдыха, и церковь, и кирпичный завод.
Мысленно Абатуров представлял себе поселок таким, каким видел его раньше, до войны. Грачи! Снова Грачи!.. Чего только в жизни не бывает…
В Грачах Абатуров провел с женой первые дни их совместной жизни, а в июле сорок первого, когда Абатуров уже воевал, жена написала ему из Ленинграда, что едет на оборонные работы в Грачи.
Спустя неделю после этого письма поселок был занят гитлеровцами. Спастись удалось немногим. Наташи среди них не было.
Удар, обрушившийся на Абатурова два с половиной года назад, не сломил его. Но душевное равновесие или, вернее сказать, необходимое для жизни сосредоточение всех сил он находил только в бою. Мучительнее всего бывали для него дни вынужденного бездействия, чередующиеся на фронте с боями.
С того дня, как началось наступление, он все время находился в приподнятом настроении. Но настроение это было иным, чем в прошлые бои.
Абатуров сам еще не разобрался в новом, возникшем у него чувстве и не мог его объяснить, так же как не мог объяснить сегодняшний сон и ту легкую радость, какую он испытал проснувшись.
Словно величайшее напряжение и ожесточенность сражения приоткрыли перед Абатуровым будущее, и в его неторопливом рассвете он увидел самого себя и новую, еще неясную, но заманчивую возможность жить.
Абатуров взглянул на своего ординарца и улыбнулся. Ну, в самом деле, разве можно рассказать Володе об этих своих сбивчивых ощущениях?
Когда Абатуров и Бухарцев дошли до деревни, в которой помещался штаб полка, было уже совершенно темно. Они долго разыскивали сколько-нибудь уцелевшую избу и наконец, услышав стук пишущей машинки, пошли на него.
Перешагнув поваленный забор, увидели полусгнившее крыльцо штабной избы и возле нее темную фигуру часового.
В комнате, переполненной людьми, было душно. За одним столом работали начальники отделов, за другим писаря подклеивали к картам новые листы. В углу под образами сидела машинистка — пожилая женщина с нашивками ефрейтора на погонах — и, скосив опухшие от бессонницы глаза на ворох бумаг, с ожесточением била по клавиатуре.
Абатуров поздоровался с оперативным дежурным, и тот, усмехнувшись, сказал:
— Досрочно сегодня комбаты собираются.
В это время Абатурова окликнули, и он, обернувшись, увидел комбата-2 Крутоярова. Они обрадовались друг другу и обнялись.
— Пойдем отсюда, — предложил Абатуров, — здесь и без нас тесно.
Они вышли и, обойдя избу, присели на завалинке. Крутояров вытащил трубку, Абатуров — папиросу. Молча закурили.
Знакомы они были давно, а друзьями стали в те дни, когда оба командовали взводами в первом (ныне абатуровском) батальоне. Сблизило их и военное дело, сблизило и то, что у каждого на душе было тяжелое горе.
— Ты думаешь, сразу после совещания начнется операция? — спросил Абатуров.
— Зачем же нас тогда сам вызывает?
— И я так думаю, — сказал Абатуров. — Ты знаешь, Саша, я не люблю вылезаек, но сегодня буду просить, чтобы я… чтобы мой батальон…
Крутояров сильно затянулся дымом. Огонек в трубке осветил его лицо, удивленно поднятые брови.