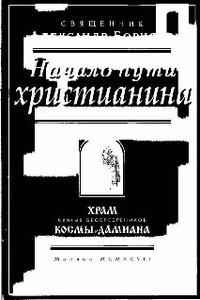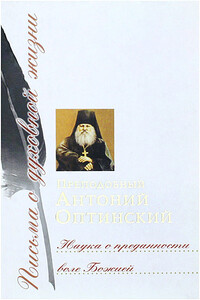Все это, конечно, не могло не радовать смелого проповедника, так что он оптимистически утверждал с амвона: «Нет! не удалось атеистической власти сделать нашу Русскую Православную Церковь Церковью старух!» Исход этого отважного начинания был, скорее, печальным, но не об этом сейчас речь. Отдельный проповедник, конечно, привлек к себе, и к вопросам веры внимание, быть может, сотен молодых людей, впрочем, по не зависящим от него обстоятельствам, ненадолго. Однако едва ли такой интерес к одному священнику дает основание для характеристики состояния всей Церкви. Если честно, то приходится с грустью констатировать обратное — именно «удалось», так как наша Церковь в таком виде, в каком она существует в настоящее время, является в самом деле Церковью пожилых и старых женщин.
Слово «церковь» означает «собрание» (греч. — экклесиа), то есть, в узком смысле слова, церковь — это те, кто собираются вместе ради соединяющего их Христа. Если мы посмотрим фотографии богослужений, помещаемые в «Журнале Московской Патриархии», или зайдем в любой храм, го увидим, что стоящие там верующие, за крайне редким исключением, — сплошь пожилые и старые женщины. Почти нет ни людей среднего возраста, ни молодежи. В настоящее время ситуация изменилась, но лишь в тех немногих храмах, где инициативу взяли деятельные священники, стремящиеся к пробуждению жизни в нашей Церкви. В большинстве же приходов осталось по–прежнему. Могут сказать, что те или иные обстоятельства делают зачастую трудным, если не невозможным, посещение храма теми, кто еще не на пенсии. Но почему же нет пожилых и старых мужчин — мужей этих наполняющих наши храмы женщин? Не все же они незамужние или вдовы. Нет, дело не в этом. Просто пожилые мужчины и старики ходят в храм столь же редко, что и мужчины других возрастов. Пожалуй, даже молодые заходят в храм чаще, причем здесь не только любопытство, но и нечто большее.
Все дело в том, что все происходящее в наших храмах психологически и интеллектуально устраивает только «бабушек» — самую смиренную, терпеливую и малообразованную часть нашего народа. Среди них немало даже просто малограмотных. Это женщины с особой формой сознания, особой психологией, основное свойство которой — покорное смирение перед любым авторитетом, любой властью — светской или церковной. Это, кстати говоря, совсем не означает, что они смиренны и терпеливы в каждодневной жизни. Скорее даже, наоборот — смирение перед любым, даже небольшим, авторитетом нередко как бы компенсируется агрессивностью в повседневной, обыденной жизни. Например, к своим же подругам по храму и особенно к тем, кто в сложившейся иерархии постоянных прихожанок занимает более, низкое положение. Такая же агрессивность проявляется и ко вновь зашедшим в храм, особенно к молодежи. Здесь очевидное желание подчеркнуть, что они в храме «свои», все знают, а «чужие» «ничего не понимают». В этом отношении удивительный контраст с баптистами. Там вновь пришедшего, даже незнакомого, чаще всего встречают благожелательными улыбками, сразу дают сборник духовных песен, чтобы человек мог петь вместе со всеми. В православном храме (в этом же городе) на новенького смотрят косо, а на клиросе так даже враждебно — «чего встал? мешаешь только!». И хотя такое отношение характерно для православного храма, все же и у нас немало прихожан по–настоящему добрых, благожелательных. Это они стараются сказать новичкам слова ободрения и поддержки. К сожалению, их часто опережают другие своей агрессивностью.
Вообще же церковные бабушки — совершенно особый слой нашего общества. У большинства из них за плечами нелегкая жизнь: разоренное или брошенное в молодости хозяйство в деревне (из–за раскулачивания), затем тяжелая работа, зато сейчас у многих все–таки более или менее спокойная старость (пенсия, отдельная квартира или комната). Так что храм, в котором горят свечи, поются торжественные мелодии, произносятся благочестивые слова, представляется им действительно тихим и радостным пристанищем, напоминающим об их молодости, деревне, праздниках, гулянках вокруг сельских церквушек в 20–е годы. Тех сельских храмов, да и многих деревень, уже нет, а в Москве церкви все же есть, и они стали для них тем местом, в котором можно действительно отдохнуть после скудной радостями жизни перед тем, как навсегда отойти в иной мир. Все они в духовном отношении нетребовательны, так что само по себе наличие храма и священнослужителя, исполняющего веками сложившийся ритуал, наполняет их сердце спокойствием, радостью и каким–то особым удовлетворением. А уж если «батюшка» оказывает им хотя бы минимальное внимание, то все уже просто прекрасно и «упаси Бог» что–нибудь в этом менять.