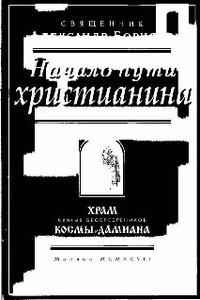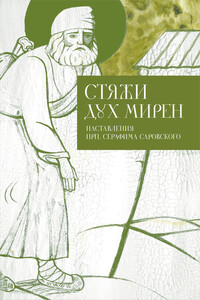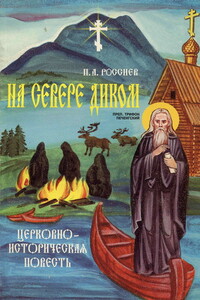Побелевшие нивы - страница 19
Доходит просто до комизма. Помню, исповедовал один батюшка. На исповеди было двое — явно беременная молодая женщина и дряхлая старуха. Батюшка, тем не менее, стал проводить «общую» исповедь, то есть говорить слово о грехах. О чем же он говорил целых минут 20? Ну, конечно же, про аборты. Другой, более актуальной темы для этой аудитории у батюшки не нашлось. Дело, конечно, просто в том, что он всегда говорил один и тот же текст, то есть всегда про аборты.
Вообще говоря, тема абортов действительно является на исповеди большинства священников самой актуальной. Во–первых, большинство прихожан — женщины. Во–вторых, жизнь, к сожалению, такова, что практически нет женщин, не сделавших в своей жизни хотя бы одного или двух абортов. Так что здесь открывается необъятный простор для обличений, увещеваний и, в конце концов, унижения. Такие батюшки именуются у народа «строгими». На самом же деле здесь происходит явное злоупотребление властью и авторитетом священника и очевидное вымещение на несчастных женщинах собственных комплексов. Вместо утешения, наставления и поддержки, человек на такой исповеди подвергается просто унижению и приводится к ощущению своего полного ничтожества и банкротства. Бог в этом случае предстает не как любящий Отец, Который Сына Своего не пожалел ради нас, а как мстительный полицейский с дубинкой, готовый покарать нас за малейший промах.
Я всегда с болью смотрю на этих заплаканных женщин, подходящих к причастию. По всему видно, что многие из них пришли впервые или, во всяком случае, впервые попали к такому «строгому» батюшке. В большинстве случаев они больше не приходят. Они так и не узнали в церкви о том, каков наш Бог, не узнали Христа. Потому что все совершенно не похоже на отношение, которое такие же вот бедные, израненные люди находили у Иисуса из Назарета. Ведь нигде в Евангелии мы не найдем, чтобы Иисус обличал лично какого–либо пьяницу, жулика или блудницу. Самое большее, что Он говорил в подобных случаях: «И Я не осуждаю тебя: иди и впредь не греши». Напротив, самые гневные осуждения из уст Иисуса были направлены в адрес людей благочестивых, кичившихся своей праведностью, своим стремлением в точности исполнить все предписания законов и преданий. Эти люди, создавшие для самих себя образ мелочного, мстительного бога, заинтересованного в скрупулезном выполнении обычаев и обрядов, забывали о самом главном — милости и сострадании. Именно эта праведность, возводимая исключительно человеческими усилиями, ставшая преградой между религиозными лидерами древнего Израиля и Богом, привела к казни Иисуса.
Следует отметить, что такие «строгие» батюшки пользуются неизменным уважением у некоторой части нашего церковного народа, в основном у тех, которые и сами «строги» со случайно зашедшей в храм молодежью. Здесь происходит какая–то странная встреча жестокого стремления унизить грешника «ради его же блага», в целях исправления, и, с другой стороны, прискорбного желания быть, в свою очередь, самому униженным более авторитетным лицом.
Эта идея — исправления через унижение — пользуется большой популярностью у консервативно настроенных людей, С восторгом выслушиваются и передаются истории о том, как в древних монастырях монахи стяжали необычайное смирение и, впоследствии, святость через исполнение всевозможных нелепых и бессмысленных приказаний. Соответственно, рассказы о том, что наш последний великий святой — Серафим Саровский — встречал всех без исключения приходящих к нему словами «Радость моя!», пользуются куда меньшим спросом. Причина ясна: подражать Серафиму Саровскому гораздо труднее, чем этим мифическим монахам.