Но он все это сделал.
Он сумел построить правильную версию, обнаружить свидетелей, задать им нужные вопросы, а потом сделать из их ответов правильные выводы.
И позже, на допросе, еще раз выслушав Петра Рулева, сказал:
— А теперь я вам расскажу, как все было на самом деле. Вы стояли втроем в подъезде и ссорились. Только не с Карпенко, а с братом. Карпенко пытался помирить вас, разобраться, кто в чем виноват, потом ушел, вы убили брата, ушли в подъезд дома номер двенадцать, сами себе нанесли рану в бедро, забросили нож и, зажав рану, добрались домой.
— Кто же мог видеть? Ведь не было никого…
Вот все, что мог сказать подавленный убийца…
Теперь, когда расспрашивают Виктора об этом деле, непременно задают вопрос, что именно толкнуло его на дальнейшее расследование, кроме обычной профессиональной добросовестности, что заставило его не поверить сразу, с налета, в казавшуюся очевидной виновность Карпенко?
Ну, обычное для следователя недоверие к очевидному, излишняя, но в общем-то объяснимая горячность и озлобленность Петра против Карпенко, старание убедить всех в его виновности. А еще? А еще, сам себе отвечал Виктор, глаза Карпенко, его неуклюжие, отчаянные оправдания. Да, бывший преступник, да, под хмельком…, и тем не менее он тоже имеет право на доверие.
Каждое утро, приходя на работу, Виктор, как он выражался, «знакомился с корреспонденцией». Это приказы, ориентировки, служебные записки, отчеты и так далее. Но порой среди вороха напечатанных на машинке бумаг попадались треугольники или простые конверты, надписанные далеко не всегда красивым почерком.
Эти письма он читал в первую очередь.
Они, как правило, приходили не из Сочи и не из Малаховки. Их отправители жили в далекой сибирской тайге. Они обосновались там надолго благодаря его, Виктора, усилиям.
Но содержали письма не проклятия и угрозы, а совсем наоборот — неумелые слова благодарности, рассказы о суровом житье. И главное — планы на будущее, мечты, вопросы.
Виктор ни разу не оставил такое письмо без ответа. Наверное, немало было таких, кто когда-то загнанный Виктором в угол, в сладком сне видел, как расправляется с ненавистным оперативником. Проходило время, порой годы, и многие все же поняли, что к чему, и… разгадали сочувствие.
Людям, даже самым плохим, так нужно бывает сочувствие, одна капля.
Виктор отложил перо, посмотрел в помутневшее от мокрого снега окно. Топкие струйки стремительно начинали свой бег по стеклу, потом, нерешительно остановившись, на мгновение замирали и вновь продолжали путь, на этот раз зигзагами, виляя из стороны в сторону.
За их причудливым рисунком виднелось серое, набухшее небо, клочкастые облака, потемневшая стена дома напротив.
Виктор еще раз неизвестно зачем поворошил бумаги на столе — письма от Губановой не было. Жаль. Больше всего он любил получать письма от нее. И не потому, что она лучше всех умела их писать. Скорее, потому, что эта странная, печальная женщина, трудное единоборство с которой он никогда не забудет, оставила в памяти какое-то особое, смешанное чувство горечи и удовлетворения.
Вот уже два года как она переписывается с Тихоненко, ей осталось не так уж много времени пробыть в тюрьме, он знает, что потом, когда она вернется, то придет сюда, к нему, на Петровку, 38, как приходили до нее многие, и он поможет ей устроиться на работу, поможет снова найти место в жизни.
Обычное дело. Разве только к нему сюда приходят, разве только он помогает…
Обычное дело, старое дело. Он хорошо помнит его.
Губанову задержали при смешных обстоятельствах. К тому времени, когда это произошло, она была уже опытной «домушницей». На ее счету были десятки краж, и она дважды отбывала наказание. Губанова тщательно готовила свои операции и шла наверняка. Вот и тогда она два месяца следила за квартирой и ее жильцом. Казалось, все предусмотрела. Ан нет, всего, оказывается, не предусмотришь. Хозяин квартиры, человек тихий и степенный, отличался аккуратностью и точностью: всегда в одно время уходил на службу, в одно время возвращался. А тут взял да и загулял. Пошел к другу на день рождения да так с непривычки напился, что на следующий день едва пришел в себя. С раскалывающейся от боли головой он часов в одиннадцать утра вышел в соседнюю комнату.
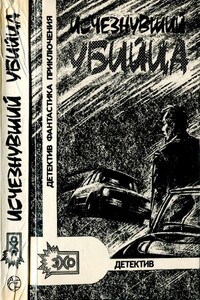
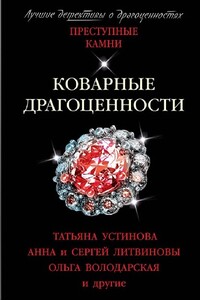

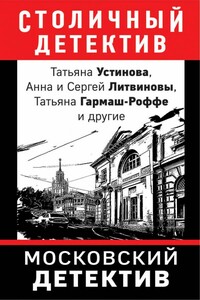

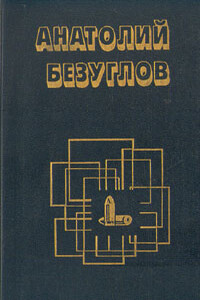
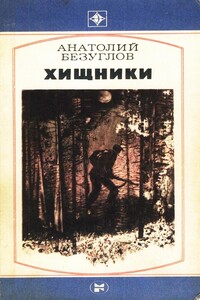

![Расследования Берковича 7 [сборник]](/uploads/books/images/05/059fed21cdd463f4fb84a9fb7798bea05096f86d.jpg)

![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)
![Расследования Берковича 12 [сборник]](/uploads/books/images/19/19139da6ccfbb4bfe1a543141cd4ea265631da79.jpg)