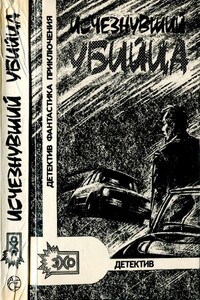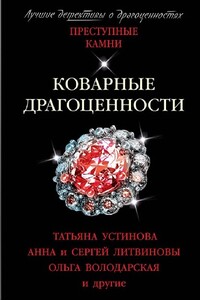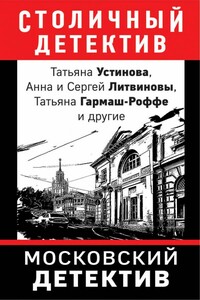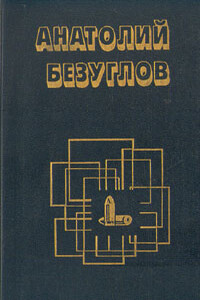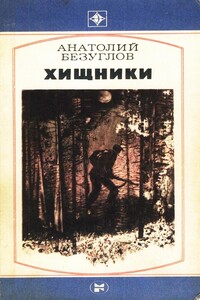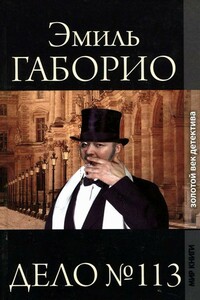— Нет.
— Что — нет?
— Явич никаких заявлений не делал.
— Ни письменных, ни устных?
— Ни письменных, ни устных.
— Значит, не делал, — тем же неестественно ровным голосом подвел черту Сухоруков и утвердительно сказал: — Следовательно, никаких компрометирующих Эрлиха заявлений не поступало?
— Нет.
Его лицо вновь растворилось в пелене папиросного дыма. Следующий вопрос уже прозвучал жестко, с напором:
— Почему же ты сомневаешься в том, что признание получено законными методами?
— В этом-то я как раз не сомневаюсь…
— Ну, если в этом не сомневаешься, то оформляй ордер на арест.
— Видишь ли…
— Нет, я ничего не вижу.
— Я тебе хочу объяснить суть вопроса.
— Она мне ясна, поэтому я тебя и спрашиваю, почему ты не берешь Явича под стражу?
— Потому что для этого нет пока оснований.
— То есть как нет оснований?! — воскликнул Сухоруков. — Что-то я перестал тебя понимать. Преступник под тяжестью улик признается в совершенном им преступлении, рассказывает, как все было. Признание надлежащим образом оформлено, все честь по чести… И вдруг: нет оснований! Ты уж просвети меня, дурака, объясни, что к чему, сделай скидку на малограмотность!
— Ты что-то выбрал для разговора очень странный тон.
— Тебе не нравится мой тон, а руководству и мне — твой подход к делу, — отрезал Сухоруков. — Поэтому будь любезен взять подозреваемого под стражу.
— Но ведь само по себе признание еще ничего не значит.
Коробок упал на стол, спички рассыпались. Сухоруков сгреб их, засунул в коробок, буркнул:
— «Само по себе»… Какое, к черту, «само по себе»!
Я дважды «горелое дело» изучал. Дважды! Там все улики против Явича, одна к одной. По-твоему получается, что остальное тоже липа?
— Тоже.
— Все липа?
— Все.
Сухоруков уже находился в том хорошо известном мне состоянии, когда аргументы воспринимаются лишь слухом, а не разумом. Впрочем, он, кажется, и не слышал, что я ему говорю. Что ему могут сказать значительного, важного? Переливание из пустого в порожнее, пустословие, очередное завихрение Белецкого, который по старой гимназической привычке ищет сложности там, где их нет.
И, ощущая эту невидимую стену между собой и Сухоруковым, я говорил вяло и неубедительно…
— Все? — спросил Сухоруков, оборвав меня на полуслове. — Теперь выслушай меня. И выслушай внимательно. Я всегда был за осторожность. Но осторожность и перестраховка — не одно и то же. Не перебивай меня, я тебя слушал, а теперь послушай ты. Сделай такую милость! Ты возился с «горелым делом» битых два месяца. За это время несколько таких дел можно было закончить. Но я тебя не теребил, не дергал, не торопил… Мешал я тебе или нет?
— Почти нет.
— Не «почти», а не мешал! С другого начальника отделения я бы три шкуры за такие фокусы спустил, а тебя не трогал. Доверял тебе и твоему опыту. Ты был как у христа за пазухой. Все удары, которые тебе за волокиту достаться должны были, я на себя принимал. А таких ударов было немало. Мне, если хочешь знать, и в главке, и в наркомате доставалось. Каких только собак не вешали! И за дело: мерзавец на свободе гуляет и посмеивается, а мы бумажечки переписываем, доказательства подбираем. Но я тебе ни полслова не сказал. Трудись себе спокойно, доводи дело до ажура, пусть все будет отшлифовано, отполировано, чтоб ни тени сомнения, чтоб все по закону! Ты у меня под стеклянным колпаком сидел, всякие умственные закавыки с Русиновым изобретал… Мне Фуфаев в уши дует, Шамрай давит — Белецкого это не касается. Он — в сторонке…
В кабинет вошел секретарь и сказал, что звонит заместитель начальника управления. Сухоруков взял трубку:
— Да… Признался. Конечно… Да… Считаю, что никаких оснований накладывать на Белецкого взыскания нет… Да, никаких… Конечно… Слушаюсь.
Разговор закончился.
— Все твои фокусы терпел, — продолжал Сухоруков. — Все! И вот наконец признание обвиняемого. Ему и то надоело. Добровольное признание, подкрепленное косвенными уликами. Все? Все… Так нет, у Белецкого, видите ли, очередное завихрение…
— Мне нужно закончить дело, — сказал я.
— Оно уже закончено.
— Требуется допросить двух-трех человек…
— Если будет необходимость, их допросят в прокуратуре или в суде.