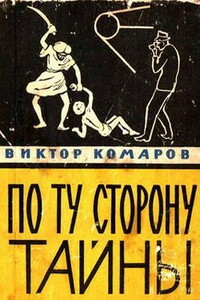И вот в один из таких бесконечно долгих, мучительных дней, спотыкаясь от усталости, под ледяным беспощадным ветром, мы вышли на широкое, довольно ровное плоскогорье, все засыпанное осколками выветрившихся пород. Тут мы сразу обратили внимание на большое круглое углубление, вроде воронки, и бросились к нему. Мы стали на краю этой круглой впадины; Соловьев долго разглядывал ее, потом нагнулся и поднял какой-то камень… Мне вдруг живо вспомнился Милфорд в последние часы своей жизни — вот он стоит там, в Гималаях, и так же внимательно разглядывает камень, оплавленный небесным огнем…
Не знаю, как угадала Маша, что творится со мной — ведь у нее эта впадина не могла вызвать никаких воспоминаний. И все же она вдруг подошла ко мне и ласковым движением положила мне руку на плечо. Я обернулся и увидел ее глаза, очень светлые и большие на исхудалом лице, потемневшем от солнца и ветра.
— Шура, — шепнула она, — Шура, не надо.
И я, на секунду забыл обо всем, почувствовал себя счастливым, — мы помирились! Я тогда понял, до чего тяжел мне был этот молчаливый разлад, вежливое отчуждение… Мы не сказали больше ни слова, только улыбнулись друг другу и пожали руки. Я помню, что ощутил мгновенный острый стыд за то, что давно не брит, что лицо у меня сожжено солнцем и морозом… Потом мы услышали восклицание Соловьева и подбежали к нему.
— Мак-Кинли, ведь это тектит! А песка тут нет! Вы понимаете, что это может означать?
Мак-Кинли кивнул. Я тоже знал, что тектиты попадаются около некоторых кратеров, когда там есть песок. Тут были голые камни.
Мы поглядели на карманные дозиметры: радиоактивность воздуха здесь не превышала обычного уровня. Мак-Кинли нагнулся и поднял еще один странный камень. «Смотрите, да их тут масса!» — сказал он. Мы начали шарить по котловине; тут и в самом деле оказалось много таких камней или, вернее, прозрачных осколков, похожих на бутылочное стекло. Они были большей частью мелкие, неправильной формы; края их казались оплавленными. Но Маша увидела в глубине котловины прозрачный белый осколок величиной с небольшую тарелку, слегка вогнутый в центре. Этот осколок особенно заинтересовал наших ученых, и они спорили, пока Карлос не сказал, что скоро стемнеет и надо спускаться вниз, под укрытие скал. Мы начали спускаться, и в более спокойных местах Соловьев и Мак-Кинли продолжали перебрасываться репликами.
Но настоящий спор разгорелся утром, когда мы вернулись в индейскую деревню, где оставили Осборна. Староста этой деревни с почтением прочитал пропуск, подписанный президентом (думаю, что он больше усвоил, о чем там идет речь, со слов Мендосы, ибо испанский язык знал плохо) и после этого всячески помогал нам — отвел лучшую хижину и приказал своим дочерям ухаживать за Осборном. Впрочем, Осборн и сам по себе внушал им крайнее почтение, больше, чем все мы: Мак-Кинли индейцы, кажется, попросту побаивались, а Мендосу слушались беспрекословно; к Осборну же отношение было особое, вроде как к святому.
Но а этот вечер, я думаю, представление о святости Осборна сильно поколебалось у индейцев; да и мы не ожидали, что он может так горячиться. Даже в голосе его, таком мелодичном и мягком, появились резкие нотки, лицо пылало, он вскакивал, жестикулировал, кричал. Причиной были все те же стеклянные обломки. Суть спора была такова: Осборн с азартом уверял, что это — обломки космического корабля, Мак-Кинли ему поддакивал, а Соловьев считал, что это — давно известное кремниевое стекло — силикагласс, встречающееся в равных местах земного шара около больших метеоритных кратеров.
— Но позвольте, где же вы видели такие большие куски силикагласса? И в местности, где нет песка? — горячо протестовал Осборн. — И никогда, никогда не может метеоритное стекло иметь такую правильную вогнутую форму! Вы же видите! Этого нельзя не видеть!
Да, осколок действительно походил на часть какой-то цилиндрической вогнутой поверхности. «А что, если все-таки Осборн прав, — думал я, — и перед нами осколок потерпевшего крушение космического корабля?» Но, слушая возражения Соловьева, я начинал в этом сомневаться.