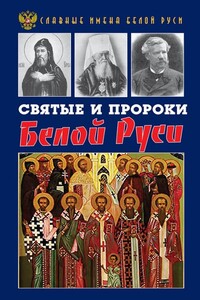Нет, совсем не романтика, которая как–то обошла мои взаимоотношения с Арктикой, а выстраданное восприятие случившегося в далеком Чукотском море превратилось в не мальчишески серьезное увлечение Севером. Увлечение укреплялось страданиями, связанными с этим не самым уютным местом под солнцем. И закономерно отлилось в преданность и любовь, сделав служение Арктике смыслом и содержанием жизни.
…Сразу после сообщения о катастрофе в Чукотском море мы встретились с Аликом и решили немедленно ехать в Арктику — спасать челюскинцев. Тот, кто был мальчишкой, поймет наш порыв. Бежали 15 февраля, прихватив на дорогу сахар и сухари, заначенные от воспитателей для пира в день моего рождения. Схватили нас 17–го, уже за станицей Бологое, что на полдороги из Москвы в Ленинград. Алика отправили домой как–никак вольный, сын родителей. Меня — никого в детдоме не предупредив — в штрафной изолятор Таганской тюрьмы. Что там со мной творили, не хочу вспоминать. Но провалявшись три месяца на каменном полу карцера, я выжил… Помню, как сквозь моросный туман беспамятства разглядел перекошенное лицо Степаныча… Руки его, ко мне протянутые… Еще я помню, как выносил он меня из ворот тюрьмы… Слова его — то ли самому себе, то ли окружившим нас — повторяемые и повторяемые:
— Он к ним с сердечком своим раскрытым, а они его, встречь, кувалдой… по–российски!…
Тут лицо тетки Катерины упало на меня… Евдокия Ивановна подбежала… Валентина Ивановна — завуч… Яковлева встретила сурово: «В карцер!». В классе я отстал безнадежно. И с медосмотра тетя Лина выгнала меня, взревя:
«Дохлый он! Дохлый! Куда его?!».
«Но ты теперь полярник настоящий», — говорили мне. И откармливали, обласкивали у тети Катерины и в детдоме. Я начал ходить самостоятельно. Заработала совершенно переставшая было соображать голова. Вернулась куда–то провалившаяся память… Все же — три месяца подвала. Для взрослого это полжизни. А для меня? Большевистская тюремная система — сколько дивизий палачей подготовила она, истязая малолеток для собственных истребительных программ, а в промежутке нацистской оккупации — для нужд зондеркоманд! Из пытошного подземелья Таганки и я вынырнул, готовый не только что кишки с глазами выдирать у живых моих «воспитателей»… Жил тем, что казни им измысливал. Только память об Александре Карловиче остудила пламень. Но, когда сказано было отобрать рисунки для выставки, я ничего не отдал — я спрятал акварели интерьеров под койкой у Степаныча. Не захотел отдавать в злые яковлевские руки мое достояние единственное, сокровище, радость — изображение нашей разгромленной и исчезнувшей квартиры по Доброслободскому переулку, 6, когда–то отнятой у нас такими же «воспитателями» — убийцами и растащенной ими…
Увезти меня, пятилетнего контрреволюционера, до обыска и погрома чадолюбивые чекисты не догадались. Потому все абсолютно я видел собственными глазами. И что увидел — все несу в себе, всю свою долгую жизнь.
Быть может, — и наверно, — не талант водил моей кистью, когда выписывал я на бумаге каждый штрих на стенах комнат, каждый блик на кафеле изразцов и на бронзе печного обряжения. Наверно, не талант. Но мучительное желание–надежда: чтоб стало, как было! Я ведь еще не знал тогда, что такое бывает только в романах больших художников.
…А тогда, после Таганки, во мне неистово бились души по–терпевших крушение челюскинцев. Звучали корабельной сиреной позывные полярного радиста Кренкеля:
— Всем! Всем! Всем! Работает радиостанция «РАЕМ» — РА–Е–М лагеря Шмидта! Полярное море, 14 февраля… 13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэлен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов… — Всем! Всем! Всем!..» Сердце мое, маленькое детское сердце, разрывалось от осознания далекого несчастья. И еще потому особенно было тяжело невыносимо, что ничем абсолютно не мог я помочь бедствующим на льдине людям, ставшим мне родными…
Вскоре я опомнюсь. И за неделю напишу свою главную картину: «Раздавленный сжатием льдов, уходит под воду «Челюскин»». Все силы свои, всю страсть и любовь к Арктике и к ее героям отдал я этой акварели, и после, месяц, вероятно, не брал больше в руки кисть — не мог, не было сил писать. Картина была хороша! Ее пришли смотреть все. До сих пор помню каждый штрих, каждый мазок красками на ватманской четвертушке. И глаза людей помню, смотревших на акварель…