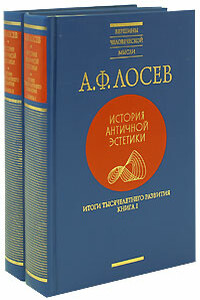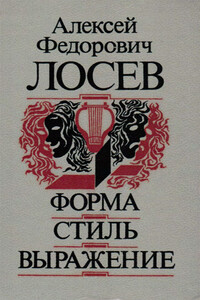Религия и мораль должны теперь играть роль не потому, что существуют боги, но потому, что это предписывает закон. Если есть возможность убеждать, законодатель может убеждать людей в существовании богов. Но убеждение — это только временное средство. Необходимо, если кто-либо выкажет себя непослушным законам, одного присудить к смертной казни, другого — к побоям и тюрьме, третьего — к лишению гражданских прав, прочих же наказать отобранием имущества в казну и изгнанием. Война, которая раньше исключалась Платоном как величайшее зло, теперь выдвигается у него на первый план и неотделима от функционирования законов. Ничего не говорится о внутреннем преобразовании человеческого сознания, разве только о художественном творчестве, да и это последнее кропотливейшим образом регламентируется законом и должно оставаться неподвижным на все времена. Образец здесь Египет, конечно, мнимый, поскольку в настоящем Египте была своя настоящая история. Платон восторженно говорит об египетской регламентации художественного творчества, что произведения живописи или ваяния, созданные там десять тысяч лет назад — «десять тысяч» не для красного словца, а в действительности, — ничуть не прекраснее и не безобразное нынешних творений, потому что и те и другие выполнены при помощи одного и того же искусства. И это пишет тот самый автор, который в «Пире» создал теорию Эроса как вечного потока любви, постоянно устремленного к новому и порождающего все большую и большую красоту! В «Пире» — вечное творчество, в «Законах» — вечное повиновение законам, требующим от поэтов и художников всегда только одних и тех же форм, одних и тех же настроений.
В этом диалоге Платон, несомненно, построил образец жесточайшего государства с насильственным земельным уравнением, со всеобщим шпионажем и с узаконенным рабовладением. В «Государстве» почти не упоминались рабы; земледельцы же и ремесленники там экономически были свободны. Зато в «Законах» у Платона рабство пронизывает все. Правда, идеалом раба признается спартанский илот, однако илот — это государственный крепостной, чье социальное положение, по существу, мало чем отличалось от положения раба. Кроме того, Платон и в «Законах» все еще продолжает уговаривать господ и рабов жить согласно между собой и не нарушать общих моральных правил. По при всех оговорках самый факт рабства признается в «Законах» открыто, и без рабства Платон вообще не мыслит здесь своего идеального государства. О небывало жестоких наказаниях как свободных, так в особенности и рабов трактует вся IX книга «Законов».
Спрашивается: могли ли такие суровые представления не повлиять и на теоретическую мысль Платона? Конечно, они оказали свое губительное влияние. Ведь реставратор принужден с помощью физической силы бороться с обществом, которое представляется ему сплошной стихией зла, причем зла отнюдь не случайного. Платон вдруг начинает проповедовать, что война всех против всех относится к самой природе общества, для которой характерны обнаженный и озлобленный инстинкт жизни и коренные противоречия как в отношении одного человека к другому, так и в отношении к самому себе. Та же вечная война существует и между отдельными людьми в доме. Все находятся в войне со всеми как в общественной, так и в частной жизни, и каждый находится в войне с самим собой. Вместо идеальных основ жизни здесь проповедуется звериная борьба всех против всех.
Невозможно себе представить, чтобы такой умный человек, как Платон, не понимал трагедии своей жизни и мысли, когда он совершал насилие над историей в надежде вернуть ее на путь истинный.
Это смешение прекрасного и трагического Платон еще лучше выразил в том месте своих «Законов», где в ответ на предложение иностранных актеров поставить трагедию он считает нужным сказать, что его государство и без того есть трагедия и что граждане государства творцы трагедии прекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей.
Но чтобы еще яснее показать, что Платон сам сознавал обреченность всей своей философско-теоретической и общественно-политической реставрации истории, кажется, лучше всего привести его рассуждение о людях-куклах. Оказывается, люди в большей своей части куклы и лишь чуть-чуть причастны истине. Но как же быть в таком случае с богами? А очень просто: мы как раз те самые куклы, которые созданы богами неизвестно для чего. Дернешь за одну нитку, получится одно, дернешь за другую — другое. Конечно, Платон и здесь, как утопающий, хватается за соломинку: самая-де важная нитка — это нитка закона или нитка добродетели. Но ведь кто, когда, как и за какую нитку дернет данную куклу-человека — совершенно никому не известно, потому что находящиеся внутри нас нити тянут и влекут нас каждая в свою сторону, и так как они противоположны между собою, то увлекают нас к противоположным действиям. У Платона здесь получается нечто прямо-таки удивительное: свое государство и свою мораль он хочет построить на этой кукольной трагедии, словно большой дом, который бы он захотел построить на трясине.