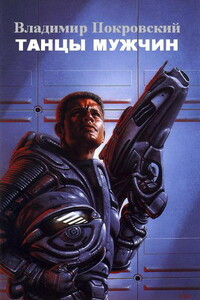Сразу после того, как куаферы, одновременно втайне готовя бунт, согласились делать нормальный, а не халтурный пробор, вроде как бы для себя самих, начались совершенно сумасшедшие дни. Сорокадневная задержка с пробором не могла пройти бесследно — у команды Федера возникло множество проблем. К счастью, все они оказались разрешимыми, но требовали нервов, сил, времени и максимальной сосредоточенности. Все это были проблемы для куаферов обычные, и заниматься своим прямым делом было им в радость. Только если б не приходилось каждый момент натыкаться на мамутов, озлобленных, молчащих и ждущих момента, когда можно будет наброситься.
Приходилось потеть по-настоящему, без дураков. Половина контейнеров с фагами, микробами и зародышами, в спешке припрятанными перед арестом, была безнадежно загублена — иные необратимо мутировали, иные «закисли» из-за неаккуратного хранения. Пробор, прерванный в самом начале, вошел в стадию почти полной неуправляемости. Такое бывало и прежде, но куда в меньших масштабах.
Мутант-ускорители, от которых следовало избавиться еще неделю назад, погнали флору вразнос — травы разрослись, почва стала быстро и почти необратимо превращаться в гнилое, отравленное болото, а то, что творилось с фауной, стало походить на откровенный геноцид. Фауны в окрестностях почти не осталось: по болотам ползали умирающие чудовища, облепленные «мгновенными» мухами грязно-желтого цвета (срок жизни этих мух исчислялся десятками минут, они только жрали, кусали и откладывали бесчисленные яйца); на ветвях мертвых деревьев сидели, нахохлившись, птицы с огромными крыльями без единого здорового пера. Парни из коррект-команды возвращались в лагерь с мрачными физиономиями и начинали ворчать о вконец загубленном проборе. На что Федер обычно говорил им, что они сосунки и в жизни своей ни одного по-настоящему загубленного пробора не видели.
— То, что получилось, — возражали ему, — расползается, оно просто-напросто съедает планету! Эти все наши «мгновенные» мухи, эти все наши скороспелки, мутанты, ускорители все эти прокисшие, они, как зараза, страшная зараза, они все губят!
— А мы зачем? — излучая деловой оптимизм, говорил им Федер и уносился куда-нибудь по очередному неотложному делу, чаще всего в интеллекторную, к матшефу.
Одна страстишка всегда была слабой стороной Антанаса Федера — он очень тщательно отбирал себе матшефов (что, в общем, совершенно правильно), а потом очень ими гордился и долго не желал признавать свою неправоту, если оказывалось, что матшеф так себе. А зачастую оказывалось именно так. Но старание себя иногда оправдывает, и на этот раз с матшефом Антанас Федер, похоже, не ошибся.
Антон действительно был одним из лучших проборных матшефов, и пять проборов, им обсчитанных, отличались одним незамысловатым качеством — все, что зависело в них от него, было сделано так, что не придерешься, не привело ни к одному сбою, даже мельчайшему. Не было, правда, в этих проборах особенного блеска, отличавшего матшефов-»художников», не было вспышек гениальности — как, собственно, и в самом Антоне, крепком неярком мужичке лет тридцати пяти — сорока. Однако проборы Антона были сработаны крепко и стопроцентно надежны.
Сам же Антон свою мастеровитость высоко не ставил. В нем жил восторженный ребенок, готовый к эскападам и подвигам, мечтающий удивить мир плодами своего причудливого и красочного воображения.
Он не считал свою жизнь особенно счастливой. С самого детства все давалось ему легко, все получалось — но при одном только условии: если не делать ничего экстраординарного. По натуре генератор идей, он вынужден был пробавляться ролью безупречного исполнителя. За неимением лучшего он этой ролью даже втайне гордился, потому что известно — нет исполнителя хуже, чем генератор идей. Но чуть только он начинал реализовывать какую-нибудь свою собственную мыслишку, красивую с виду, все шло наперекосяк. Мыслишка оказывалась бредовой, приличные люди, когда он с ними по ее поводу советовался, иногда пытались ее похвалить, одновременно намекнув на ее откровенную глупость, а по возможности и просто уйти от ответа, как бы даже Антона и не услышав. «Вот тебе и мыслишка!» — восклицал про себя донельзя огорченный Антон и с усердием принимался оттачивать свое умение хорошо делать всем известные вещи.