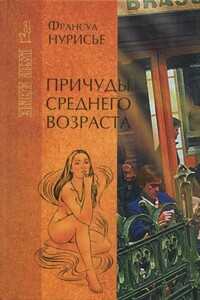— Ну же, поцелуй меня, — сказал он ей, и, поскольку у него был счастливый вид, а во взгляде сквозило лукавство, Сесилия, ожидавшая упреков, спросила, что привело его в столь хорошее расположение духа.
— Папаша Дэдэ скончался, и тебя назначили президентом банка?
— Все шутишь!
— Хотела бы я шутить, но не могу; Гюстав, я совершенно серьезна, и мне надо с тобой поговорить, — ответила она, входя в гостиную.
— Я тоже должен тебе сказать нечто важное, потому-то мне так и не терпелось тебя увидеть, — весело ответствовал он. — Послушай, Сесилия, тебе больше нечего от меня скрывать, — и без лишних предисловий он передал ей все, что рассказала ему Жильберта.
Еще он сказал, что без откровений Жильберты он установил бы за ней слежку и наверняка бы сделал самые печальные выводы относительно ее встреч с Полем Ландриё, но теперь ему не по себе при одной только мысли о том, что он ее подозревал:
— Ты за меня боялась, обо мне думала, ты теряла голову при мысли, что я буду страдать от последствий твоей нескромности, шуток и безрассудства. Но вместо того чтобы ругать, я благодарю тебя, любовь моя.
— Нет-нет, умоляю тебя, не благодари меня.
— Что мне до мнения твоего брата обо мне, что мне ваши артистические вымыслы; мне самому случается смеяться над своими лучшими друзьями. Мне дороги только твои чувства, и я знаю, что ты меня любишь: ты доказала это, рискуя и подвергаясь опасности, а до остального мне дела нет.
— Послушай, Гюстав, послушай…
— Нет, успокойся, ничего не объясняй, не нужно. Сила, слабость — я все пойму, ты же видишь. Поль Ландриё зол на тебя за то, что ты приняла его за мошенника? Он сам виноват, так как его поступок создавал двусмысленную ситуацию, и завтра же я поеду к нему и потребую это письмо, которое он держит у себя из мести. Самые честные люди порой ведут себя просто невероятно.
Сесилия плакала.
— Не плачь, — сказал он, обнимая ее. — Все хорошо, что хорошо кончается, и в этот вечер я даже счастливее, чем в пору нашей помолвки. Помнишь? Ты мне сказала: «Еще неделя, и нас будет двое». Ну что, нас двое, да или нет?
— Мне больно от твоих воспоминаний, твоя доброта убивает меня, — ответила она, рыдая, и чем больше он старался успокоить ее, чем больше ласкал и осушал ее слезы, тем больше усугублял ее горе. — Письмо, ах, это письмо — не думай о нем, — сказала она наконец, — Поль вернул мне его сегодня, и я разорвала его на тысячу клочков.
Гюстав не был ни глуп, ни снисходителен, но ум его был устроен таким образом, что побуждал его оборачивать все вещи выигрышной для него стороной, и Сесилия, столь серьезная в этот момент, поняла, что стала жертвой этой склонности, которой до сих пор постоянно пользовалась. Перед этим доверчивым и встревоженным человеком, однако склонным по своей природе видеть во всем лишь лучшую сторону, то есть то, что было выгодно для него, она оказалась лишенной права голоса. Трогательный и почти трагический свет озарил причины уважать его и быть к нему привязанной, она ужаснулась чувствам, которые он один мог ей внушить, и признала за собой обязанности по отношению к нему, продиктованные нежностью.
Она целый вечер содействовала счастью Гюстава. Избавившись от забот, торопясь быть счастливым, он весело болтал, осыпал ее тысячей знаков внимания и все спрашивал:
— Так ты вправду все еще любишь меня?
Этот вопрос доводил ее до самого глубокого отчаяния.
— Я люблю тебя, как никого другого, — отвечала она без обмана. Ей было тяжко жалеть его, однако эта жалость внушала ей уважение. «Все уладится, надо подождать», — говорила она себе и при этом, мучимая тайной о себе самой, видела в муже соперника своего любовника.
Гюстав погасил свет, и они поднялись в спальню.
Сесилия задержалась в ванной. Там в зеркалах отражался сад Поля, тишина и птица. Там была спальня, где пахло гипсом, а в этой спальне — белый корабль, готовый пересечь ночь, чтобы причалить к заре, а на плиточном полу лежала шпилька. А на улице были два каменных надгробия, перед которыми склонялись прохожие, а господа и дамы смотрели на них из окон своих машин. «Любовь моя, поскольку мы умерли от любви, ты меня поймешь», — прошептала Сесилия. Она тосковала о чистоте, томлении, неопытности и девственности, она хотела бы быть еще девушкой для Поля. Воспоминания о браке смешались с ее мыслями, она их отталкивала, но перед ее мысленным взором представали всякого рода безнадежные картины. Она вспомнила, что впервые поцеловалась в пятнадцать лет: ее поцеловал друг брата в день ее рождения в октябре, на пляже, в кабинке, сотрясаемой ветром. Он сказал: «Это мой подарок». Теперь она понимала, что этот подарок был кражей. «Первый поцелуй, роковой поцелуй. После него губы переходят в общественное пользование повторов, сходства и пошлости, — сказала она себе, — и теперь, когда я хотела бы все отдать, мне в удел осталась боль от знакомых жестов и печаль от невозможности забыть. Босая, растрепанная, я осталась в той пляжной кабинке, я все еще там, навсегда прижалась спиной к перегородке, в полутьме, и все кончено, я никогда не выйду оттуда ни для кого, и никто не возьмет меня нетронутой, такой, какой я осталась там, во времена, когда я не была ни судьей, ни свидетелем своих переживаний и, ничего не зная, не ведала унижения от возможности сравнивать».