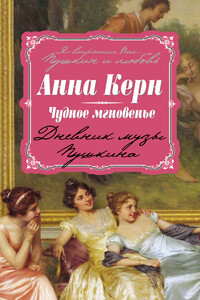Очень хочется почитать Лема. Я не могу судить из такого далека, но никогда не ставил знак равенства между тенденцией (духовной) ХХ века и фашизмом. Леверкюна[26] ведь погубило отсутствие Девятой симфонии (в Германии 40-х годов, я полагаю, как раз процветала опошленная вариация Героической, так должно было быть, по некоторым моим соображениям). Собственно, об этом ведь постоянно и говорит Цейтблом – молчок, пристанище, та порода людей, от которой я по суетливости своего характера отстал, но надеюсь прибиться. Это ведь теперь мой любимый положительный герой.
Когда я писал о ХХ веке (о его литературе), я имел в виду не тематику, а спекуляцию на парадоксе, эксплуатацию (воспользуюсь модным термином) мифа, отход в лучших своих проявлениях к исчерпанной линии Вольтера, Свифта и других. Этим отмечены не только Орвелл, Замятин, а и лучшие из лучших современников – Фриш, Дюрренматт, даже Камю, которого я как раз сейчас перечитываю.
Я не люблю Набокова: «Лолита» и «Защита Лужина», которых я знаю, и рассказы, с моей точки зрения, – претенциозная лит. провинция (очень мне запомнился его выпад в предисловии к «Лолите» против Т. Манна) ‹…›
Вообще, все точки над «и» расставлены, милый. Нам бы с тобой сохраниться и дружбу поберечь. Целую тебя, Галку, твоих чад ‹…›
Илья.
18.9.70
Дорогая Леночка!
‹…› Когда ты пишешь о замирании «культурной» жизни, ты не совсем права: надо быть все-таки в некотором отдалении, чтобы понять, что в Москве и старых веяний и впечатлений хватит на всю жизнь. Мне сейчас кажется, что я находил бы массу времени, чтобы побежать к французам в Пушкинский, или к Врубелю, Нестерову, недавно (но при мне) появившимся бубно-валетцам. Но потом-то я понимаю, что это самые что ни на есть разманиловские мечты: обязательно что-нибудь помешает. Не сокрушайся и по поводу тех, кто зачитывается Шевцовым, не стоят они сокрушения. По мне, тут куда горше низкопоклонство все читавших и все понимающих людей. Мне вот пишут о том, как один из моих товарищей (близких когда-то) ругает любимого им писателя. Судя по цитатам, он писал и смеялся. И грустно очень, что у нас часто смещается терминология: нам бы сказать просто – холопство, подлость, а мы скажем, что у них обстоятельства, «среда заела». Словом, настоящая интеллигенция не компрометирует себя обычной порядочностью (профессиональной), считает нормой сосуществование двух образов мыслей: для своих и для всеобщего обозрения – и это, по-моему, чрезвычайно скажется в конце концов на общем потоке нашего научного, литературного и пр. багажа. Не может же быть, мне кажется, «теплая» (не холодная и не горячая) литература, наука.
У нас с тобой совпало отношение к чтиву. Я тоже сейчас с большей охотой читаю книги по истории, эстетике, философии, а не художественные. Но здесь, наверно, есть что-то ненормальное, во всяком случае, пугающее меня. Я уже жаловался одному из своих корреспондентов – пожалуюсь и тебе. Кажется, чтение книг умных и отвлеченных (если – и только) отучает от сокровенных реакций: удивления, даже, если угодно, восторга, умиления. Я себя поймал на том, что соскучился по этим не очень-то глубоким качествам, когда перечитывал в Лефортово Диккенса. Но все равно, в состоянии не очень усталом мне даже в «толстом» журнале приятнее читать статью, нежели беллетристику. В тюрьме в этом смысле благодать, но там не всегда есть хорошие книги. Вот в том же Лефортово я почитал книги, за которыми давно охотился: Винкельмана, Дворника о средневековом искусстве, Муратова «Образы Италии» – многое. А в отношении беллетристики у меня как-то «все возвращается на круги своя»: я снова, после долгих крушений и сомнений, возлюбил XIX век, и в нашем искусстве – его традиции (особенно Т. Манна), а не XVIII, XVII, и их продолжателей наших дней – с опорой на эффективную, но не всегда глубокую и, главное, не всегда человечную притчу. Законченное на днях перечитывание Камю (самое интересное, по-моему, в этом роде – а не Ионеско или Фриш) как-то еще больше скорректировало все это. Впрочем, я умничаю без особых на то моральных оснований: знаю я все ведь только в переводах ‹…›