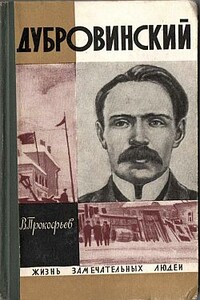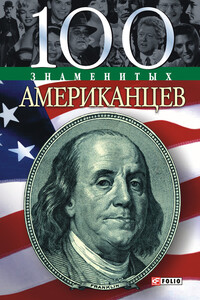Если полиции и удастся кое-что обнаружить, генерал тут как тут, и «по высочайшему повелению» дело перекочевывает в Третье отделение. А император держится за него, как за соломинку.
Иван Петрович Липранди, потомок испанских грандов, отставной полковник русского генерального штаба и чиновник особых поручений при министре внутренних дел Перовском, жил открытым домом, имел прекрасную библиотеку и считался человеком ученым.
Его изыскания о раскольниках печатались в исторических изданиях.
Но в Петербурге знали и оборотную сторону этой «испанской медали».
Знали, что император Александр лично назначил Липранди начальником русской военной и политической полиции во Франции после окончания наполеоновских войн, что ученый-шпион берет с раскольников взятки и на совести его дела «особо секретные».
Иван Петрович приходил в негодование от этих толков, пытался их опровергать, втайне же гордился властью, страхом, который он внушает, и старался изо всех сил.
Перовскому не хватает графского титула, ведь шеф жандармов Орлов — граф; Липранди хлопочет о генеральских чинах; начальник штаба корпуса жандармов Дубельт — генерал.
Перовский — откровенный недруг Орлова; Липранди — закадычный приятель Дубельта.
И оба, министр и его подручный, хотят быть «героями» родины, ее «спасителями» и утереть Третьему отделению нос.
Литографированная записка Буташевича-Петрашевского, конечно; не воззвание и не призыв к бунту. Но она напомнила о «явлениях возмутительных». Император ныне страшно напуган. И если этот испуг поддержать искусственно, а потом представить Петрашевского и его «пятницы», о которых знает весь Петербург, как заговор, приукрасить, раздуть и «пресечь», то титул графа, чин генерала, благосклонность императора, признательность «общества» будут обретены, Орлов посрамлен и, может быть, — упразднен.
Липранди нашептывает министру:
«Открыто распространял свое воззвание на вечере у генерала Бойкова…»
«Сетует на то, что цена населенных имений ниже их фактической стоимости, что мало привлекается к землевладению капиталов, так как купечество, да и все остальные классы, за исключением дворянства, не имеют права владеть населенными имениями…»
Дворянин, а печется о купеческих интересах да и крестьян не забывает.
«Этот Буташевич предлагает предоставить купцам право приобретать населенные земли, а крестьян, которые живут на них, сделать „обязанными“ по закону 1842 года или, что еще выгоднее, дать им право выкупаться на волю за определенную и не очень обременительную сумму».
Ведь это призыв к бунту. И именно сейчас, когда в стране бродит столько вздорных слухов о воле, революции, республике!
Подымать крестьянский вопрос, когда известно, что государь и слышать об этом не желает.
«Записка Петрашевского выходит за рамди законов».
Автор предлагает учредить «кредитные земские учреждения, как в Польше».
Прекрасно, государь ненавидит этих поляков.
«Учредить сохранные кассы во всех уездных городах и поручить прием взносов в них всем приходским священникам. И при сохранных кассах создать mortt-de-piete на тех основаниях, как они существуют во Франции с присоединением права принимать под залог некоторые земледельческие произведения».
Перовский довольно потирает руки. Если такую записку передать императору, то только одного упоминания Франции будет достаточно, чтобы автора посадить в крепость.
Но будущему графу этого мало. Нужно представить дело так, чтобы Николай понял: полиция, а не жандармы открыли «обширный заговор». И преподнести «заговор» в размерах не меньших, чем этоимело место в 1825 году.
Липранди должен пронюхать о Петрашевском все. Не дай бог, Орлов опередит.
Перовский спешит под величайшим секретом сообщить императору о «нащупанных» им «нитях заговора» и умоляет его пока «преступников» не арестовывать, дать ему, Перовскому, время выведать все до конца.
И ничего не говорить графу Орлову.
Спешнева удивило появление Петрашевского. Обычно Михаил Васильевич посещал его только после многократных приглашений и очень неохотно. Николай Александрович приписывал это некоторой ревности со стороны Петрашевского. За последние месяцы Спешнев обрел большое влияние на гостей коломенского домика, и, наверное, Петрашевскому это неприятно.