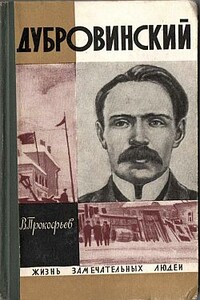Скорее всего Петрашевский, такой непосредственный, неспособный на хитрости, просто ценит воспоминания о былом. А ведь Спешнев — это и прошлое.
Если Муравьев сдержит свое слово и Спешнев станет редактором «Иркутских губернских ведомостей», то Петрашевский, наконец, обретет какую-никакую трибуну, общественную деятельность, единственно милую его сердцу. Львов радовался за друга.
Нет, это просто великолепно, что они опять вместе. В годы, проведенные на Александровском заводе, Федор Николаевич успел убедиться в стойкости, неутомимом трудолюбии и неизменности убеждений этого человека. Хотя Львов хочет всерьез заняться химией, но и дела общественные он не намерен забывать. А вдвоем они смогут влиять и на Спешнева. Он не только их друг, но и человек, в котором Муравьев принимает самое живейшее участие. Через него они смогут влиять на местное общество, внушать ему свои идеи.
Жандармский офицер с удивлением поглядывает на своих поднадзорных. Муж и жена! Мужу за сорок, а ей, наверное, и двадцати нет; тоненькая, хрупкая даже в этих неуклюжих, топорщащихся дорожных одеяниях.
Муж заботливо укутывает ей ноги, то и дело заглядывает в глаза и, поймав улыбку, с жаром целует руки. Жандарм его нимало не смущает.
Офицер хорошо знает, кого он должен доставить в резиденцию генерал-губернатора Восточной Сибири из захолустного Томска. Имя Михаила Бакунина известно всем образованным людям, жандармы осведомлены о нем значительно больше.
Как сейчас не похож этот заботливый супруг на того мрачного, со взглядом хищного зверя и львиной гривой, страшного революционера, за которым долго охотилась полиция крупнейших европейских стран. Он ныне смирен, почтителен в разговоре. Никаких крамольных фраз или даже намеков. Видимо, пообтесали его годы, проведенные в Петропавловской крепости и Шлиссельбурге. Да, государственные тюрьмы — это тебе не Баден-Баден или Дрезден, и Сибирь тоже не курорт.
Конечно, Петропавловская крепость, одиночка сделали свое дело. Не хочется и вспоминать, ведь тюрьма вырвала у него покаянную «исповедь» перед монархом. И право дышать свежим воздухом Сибири он заработал ценой унижений.
Но жандарм ошибается: Сибирь куда целебнее гейзеровых источников Баден-Бадена. А потом ведь генерал-губернатор Муравьев приходится ему, Бакунину, дядюшкой. Что ни говори, а с таким дядей не пропадешь.
Это он сломил упорство старика Квятковского, и тот все же выдал за Бакунина свою дочь.
Ах, как тепло, как призывно горели плошки с жиром, расставленные на улице вокруг дома ссыльного, когда там справляли свадьбу! Половина города сбежалась на празднование. Николай Николаевич, граф Амурский, был посаженым отцом.
Теперь Бакунин рассчитывал с помощью дяди обрести, наконец, полную свободу и подыскать себе доходное занятие. Ему надоело каждый раз выпрашивать деньги у матери и братьев.
Жандарм пытается представить себе этого здоровяка в платье монтаньяров Французской революции 1848 года. Ведь, говорят, он не вылезал из их казарм и денно и нощно проповедовал коммунизм.
Разное говорят. Жандарм слышал, что его императорское величество Николай Павлович, как военный, остался доволен действиями своего бывшего артиллерийского офицера в Дрездене.
А там, в этом городе, взбунтовавшиеся профессора и студенты поставили Бакунина во главе восстания, и он обучал их военному искусству.
Он какой-то вездесущий бунтарь. Когда ехал где-то по дорогам Германии, наткнулся на возмущение крестьян. Поселяне что-то кричали и угрожающе подымали кулаки к каменным башням замка. Бакунин выпрыгнул из возка, поговорил, а когда садился обратно в телегу, замок уже пылал со всех сторон.
Офицер внимательно разглядывает запястья рук Бакунина. Нет, на них не видно следов оков, а ведь в Ольменце австрийцы полгода продержали его на цепи, прикованной к стене; наверное, цепью были закованы ноги.
Бакунина раздражает этот офицерик, так бесцеремонно и вот уже который день разглядывающий его особу. Черт бы его побрал, нужно будет на будущее добиться от дяди, чтобы тот разрешил ему свободно, без подобных сопровождающих разъезжать по Сибири.