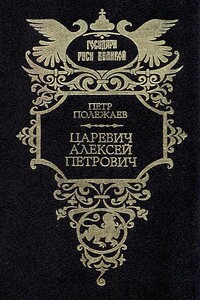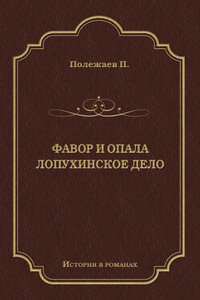Петр II - страница 88
– Государь молод, на привязанность или неприязнь его рассчитывать много не следует, – с задумчивостью проговорил Василий Лукич. – Да и где же проявилась неприязнь к Голицыным?
– Об этом не беспокойся – дело сделано. Как только отослали нерушимого статуя, я, зная, что со стороны Голицыных, особенно со стороны Михаилы Михайловича, будет какая-нибудь вспышка в пользу Данилыча – были они, ты знаешь, хороши между собою, служили вместе покойному, – я тогда же шепнул о дружбе фельдмаршала Михайлы с Меншиковым, предупредил, значит, как следует. Вот когда Михаила Михайлович явился из Украины в Петербург и, получив аудиенцию, начал укорять государя, что ссылать людей заслуженных без суда неподходящее дело, так государь обернулся к нему спиною и явную показал немилость. С тех пор нам Голицыны не опасны. Где их сила? Знаешь сам, какие у них, у Дмитрия Михайловича[19] и Михайлы Михайловича, упрямые характеры, а такие характеры Пётр Алексеевич не полюбит.
Василий Лукич, по обыкновению, не показал ни одобрения, ни осуждения, только, после небольшого раздумья, он спросил брата:
– Заметил я, что цесаревна Елизавета в последнее время стала к Голицыным особливо благосклонна – не было бы тут чего?
– А чему быть? – вопросом ответил Алексей Григорьевич. – Цесаревне понравился племянник фельдмаршала Михайлы, молодой Бутурлин – вот и всё тут. Боишься ты, брат Василий, влияния на государя цесаревны, он больно уж её любит, а по-моему, это ничего. Цесаревне не ребёнок нужен, ведь это только немцу Андрею Иванычу могла прийти такая шальная мысль – женить племянника на цесаревне для совокупления-де воедино двух царственных ветвей! Цесаревну мы отведём, выдадим её замуж за границу, Иван постарается… Да и самого государя можно отвлечь: иной раз и служанка покажется не хуже госпожи…
И Алексей Григорьевич, вплотную наклонившись к уху Василия Лукича, начал шептать:
– Заметил государь камеристку у цесаревны, смазливенькую такую, как будто схожую с цесаревной, вот Иван и уладил… Не пожалел заплатить и пятидесяти тысяч рублей… Проводил девушку к государю… Слюбились… С той поры государь не как прежде дорожит и сестрою своей, Натальей Алексеевной.
– Неужто? – удивился Василий Лукич. – Да как же это? Ведь государю только двенадцать лет минуло с прошлого октября.
Алексей Григорьевич самодовольно хихикнул и утвердительно мотнул головой.
Как ни был свободен от предрассудков относительно служения Эроту князь Василий Лукич, видевший разные виды при иностранных дворах, но и он заметно смутился от рассказа брата. «А впрочем, – тотчас же мелькнуло в его голове, – оно, может быть, и к лучшему…» В изобретательном уме дипломата моментально обрисовались картины перенесения и на русскую почву тех порядков, какие он видел за границей, в Швеции и Польше, картины, вполне удовлетворявшие олигархическому духу, в которых всё было: и власть, и слава, и почести, не было только одного – мысли о подлом народе.
Беседа братьев протянулась до полуночи; обо всём, казалось, было переговорено и условлено, но через несколько часов случилось обстоятельство, которое всё-таки не предвиделось.
На другой день после совещания, утром, весь придворный круг облетело известие о каком-то подмётном письме, поднятом у Спасских ворот близ Кремля и тотчас же представленном господину обер-камергеру Алексею Григорьевичу. В письме содержалось прошение за павшего статуя Александра Даниловича Меншикова. Гневом вскипел Алексей Григорьевич, прочитав это письмо, и по первому побуждению предположил было скрыть его от всех, уничтожить без следа, но потом, обдумав хладнокровно, решил, напротив, показать его государю и прочитать, разумеется, с приличными пояснениями. Письмо, написанное, как видно, неопытным человеком и притом пояснённое ядовитыми примечаниями, не могло не раздражить государя, не могло не оскорбить его самолюбия и гордости. В нём, после упоминания о заслугах Данилыча, высказывался извет о низких замыслах окружающих теперь государя любимцев, ведущих его к образу жизни, недостойному царского сана.