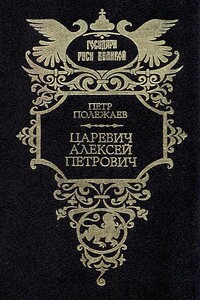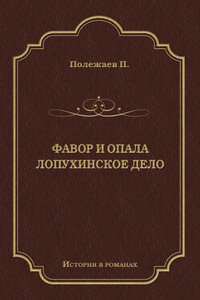В такие минуты он положительно леденел от ужаса. Алексею Михайловичу казалось, что он не переживёт этого несчастия, что смерть княжны Анны выроет и для него могилу.
Вскоре после того, как он узнал о её болезни, он подкупил одного из слуг князя Рудницкого, который обязан был ежедневно сообщать ему о ходе болезни бедной княжны, о всех переменах её положения.
И долгое время Алексей Михайлович только и слышал:
– Не лучше; ваше сиятельство. Пласт пластом лежит княжна. Должно, не выживет.
Сначала эти печальные слова повергали его в ужасное отчаяние. Он чуть не плакал по уходе скорбного вестника; но дни проходили за днями, неделя убегала за неделей, и он мало-помалу привык к этому ежедневному ответу на свой тревожный вопрос.
Декабрь уже подходил к концу, когда этот ответ вдруг изменился.
Михешка, – так звали слугу князя Рудницкого, который являлся вестником Долгорукого, – прибежал как-то вечером запыхавшись, едва переводя дух, до того взволнованный, что Алексей Михайлович испуганно воскликнул:
– Что, умерла?!
– Нет, ваше сиятельство, – ответствовал Михешка, – слава тебе, Господи, выжили: не в пример лучше стало.
Долгорукий почувствовал, как кровь прихлынула к сердцу, и оно быстро-быстро забилось.
– Да ты не врёшь? – воскликнул он.
– Что вы, ваше сиятельство, помилуйте! Да нам это всем такая радость, что и сказать невозможно! Мы небось княжну-то вот как любили! С чего мне врать!
– Ну спасибо тебе, братец! И меня-то ты обрадовал этим. Вот тебе за добрую весть!
И он, вытащив из кармана несколько рублёвиков, сунул их в руки Михешке.
Анна Васильевна действительно выжила. Жизнь победила смерть, и княжна стала поправляться. Нечего и говорить, что радости стариков Рудницких не было предела, когда они узнали, что дочь их не только выздоровела от последней болезни, но что есть надежда на полнейшее её исцеление от тайного недуга, подтачивавшего ранее её силы. Казалось, что болезнь, чуть не унёсшая молодую девушку в могилу, помогла ей побороть душевные страдания. Княжна стала теперь гораздо веселее. Она начала полнеть. Глаза потеряли свою прежнюю тусклость, и на щеках появился хотя и слабый, но всё-таки заметный румянец.
Старики радовались такой внезапной перемене, но в то же самое время и удивлялись ей, не зная, что её вызвало. Между тем эта перемена объяснялась очень просто. Слова Долгорукого о том, что Василий Матвеевич жив, запечатлелись в её мозгу и, точно отзвук далёкого эха, отдавались в её душе.
Как раньше она была уверена в том, что Барятинский погиб, как раньше эта уверенность подтачивала её силы и постепенно расшатывала её организм, так теперь эта робкая надежда словно воскресила её, заставила воспрянуть духом.
Как цветок, согнутый порывом ветра, снова поднимает свой венчик под лучами животворного солнца, так и она возрождалась, согретая явившейся надеждой, что Барятинский ещё жив и что счастье ещё возможно. Выздоровление шло очень быстро. Силы крепли, и вместе с этими силами крепла и уверенность в том, что Долгорукий не обманул её.
«Только как бы узнать, – думала она, – где скрывается Вася. Очевидно, он болен, и никто, кроме Долгорукого, об этом не знает. Нужно, значит, от него добиться истины, нужно во что бы то ни стало».
Но как же это сделать? На этот вопрос молодая девушка долго не находила ответа. Сначала она хотела просить отца съездить к Долгорукому и узнать от него, где находится Василий Матвеевич, но потом решила, что это не поведёт ни к чему, что Алексей Михайлович ничего ему не скажет.
«Нет, нужно будет сделать что-нибудь другое, – размышляла она. И вдруг ей пришла в голову безумная мысль:– А что, если я сама отправлюсь к нему и буду просить его, чтоб он сказал мне, где теперь Вася. Ведь он когда-то меня любил. Он не откажет наверное в моей просьбе. Да, да, я так и сделаю!»
И это решение как бы ещё более подкрепило её…