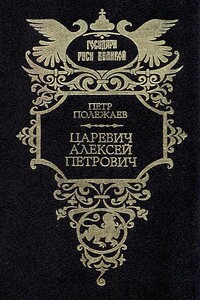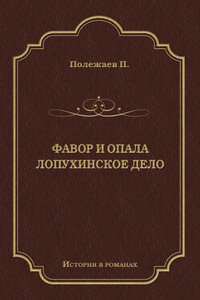Никита провинился в чём-то и ни за что не хотел просить прощения, считая себя невиновным. Это глупое упорство чуть не стоило ему жизни. Михаил Владимирович, вообще обращавшийся мягко со своими людьми, вследствие такого упорства страшно взбеленился. Он приказал запороть Никитку до смерти, и Никитку, конечно, запороли бы, если бы за него не вступился Алексей Михайлович и не выпросил ему прощение у рассерженного отца. Михаил Владимирович отменил своё жестокое приказание, но под непременным условием, чтобы Никитка убирался долой с его глаз на оброк и никогда не смел появляться ни в одном его поместье, и тем паче на московском дворе. Конечно, Никитка не ждал такой милости, и когда ему из княжеской конторы выдали отпускную, он пришёл в горницу к Алексею Михайловичу, упал на колени и, обливаясь слезами, сказал:
– Вовек вашей доброты, ваше сиятельство, не забуду! Осчастливили, можно сказать, по гроб жизни! И скажите вы мне теперь, ваше сиятельство: умри, Никитка! – умру-с! слова не промолвлю!.. Во веки веков ваш раб, и если что понадобится, только клич кликните, – из-за тридевять земель прибегу-с!
И вот этого-то Никитку и вспомнил теперь Алексей Михайлович. Он мог быть прекрасным помощником в деле похищения княжны Рудницкой. Оставалось только узнать, где он теперь обретается. Это не представляло большого труда, потому что в дворне у Никитки были друзья, которые наверное знают об его местопребывании.
Алексей Михайлович не стал даром терять времени и тотчас же крикнул, подойдя к двери:
– Ермолай! поди-ка сюда!
В горницу тотчас же вбежал его слуга.
– Что угодно, ваше сиятельство? – спросил он.
– Ты помнишь Никитку? – обратился к нему Долгорукий.
– Это того самого, который на оброк ушёл? Помню, как не помнить! Мы, чай, с ним свойственники.
– Так ты, может быть, даже знаешь, где он и находится?
– Как же не знать! Вестимо, знаю.
– Так где же он?
– В Москве.
– А в каком месте?
– Да недалече отсюда, близ Алексеевского, на мельнице в засыпщиках живёт.
– А мельница-то чья, не знаешь?
– Как не знать – знаю. Мельница Тихоновская.
На этом разговор оборвался, а на другой день рано утром Алексей Михайлович велел оседлать лошадь и отправился по Троицкой дороге к селу Алексеевскому. Утро было морозное. Лёгкий иней белой пеленой лежал на оголённых сучьях деревьев и серебристым ковром покрывал поля, тянувшиеся по левую сторону дороги. Солнце только что встало и громадным багровым пятном, как будто совершенно лишённым лучей, глядело сквозь туманную дымку, затянувшую горизонт.
Вот вдали показались сосны дремучего Сокольнического бора. Дорога пошла целиной через лес, и горячая лошадь то и дело спотыкалась на змеевидных корнях деревьев, вылезших на поверхность земли. Здесь стояла прохлада. Резкий ветер, шумевший в ветвях лесных великанов, то и дело бросал в лицо Долгорукому мокрую пыль. Звон лошадиных подков гулко раздавался в лесной тишине, и гулкое эхо повторяло его по нескольку раз, замирая где-то вдали, в самой чаще, куда, казалось, совсем не проникал дневной свет.
Алексей Михайлович полною грудью вдыхал в себя свежий морозный воздух и, совершенно бросив поводья, предоставил полнейшую волю лошади, бежавшей мелкой рысцой. Он предавался своим думам, не дававшим ему ни на минуту покоя.
«Да с помощью Никиты, – думал он, – я живо обделаю это дело. Он парень, кажется, смышлёный… Как-нибудь выманим её из дома, а там в кибитку – и поминай как звали!»
«А если она не вынесет потрясения да помрёт? – вдруг прорезала его мозг страшная мысль. – Да нет! Не может быть! – успокоил он себя. – Не умрёт же она, в самом деле, не так уж она слаба. Может, упадёт в обморок, – ну, да тогда я её отходить сумею, лишь бы она в мои руки попала».
Лошадь споткнулась о чересчур выдавшийся корень и захрапела. Это заставило его вернуться к действительности. Мысли, как стая испуганных птиц, разлетелись, и он удивлённо огляделся кругом. Дорога раздвоилась. Направо виднелась тропа, убегавшая в глухую чащу, где тёмная зелень сосен казалась совершенно синей. Налево дорога бежала в гору, из-за которой белела церковная колокольня с сиявшим в лучах солнца, как золотая звёздочка, крестом. Немного левее колокольни чернели крылья ветряка.