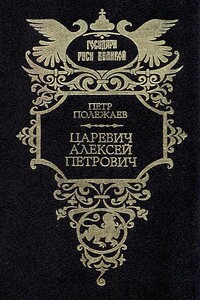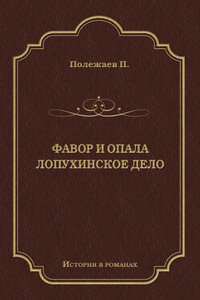Первым подбежал к неподвижно лежащему Барятинскому Сенявин. Он стоял к нему ближе всех и заметил, как князь Василий Матвеевич с тихим стоном опустился на снег после того, как прозвучали выстрелы. Барятинский лежал навзничь с совершенно помертвелым лицом, и с первого взгляда казалось, что жизнь уже покинула его могучее тело. По зелёному сукну мундира вилась струйка крови и, сбегая на снег, окрашивала его в алый цвет.
– Убит! Вася, милый! – воскликнул старый князь, подбегая вслед за Сенявиным.
Сенявин грустно покачал головой и промолвил:
– Должно, наповал. Ишь, щучий сын, как верно наметился! Почитай, в самое сердце.
И он указал на черневшее на сукне мундира отверстие, откуда сочилась кровь.
– Ах, Вася, Вася! – грустно вздохнул старик. – Не послушался меня, старого вещуна, вот и поплатился молодой жизнью!..
И он отёр рукавом своей шубы навернувшиеся на глаза слёзы.
– Да, может, он ещё жив, – робко заметил Вельяминов, наклоняясь над лежавшим неподвижно другом.
Сенявин печально махнул рукой.
– Какое жив!.. Нешто не видишь: лицо синеть начинает.
– А может, жив, – опять повторил Вельяминов, – иной совсем мертвец мертвецом, а глядишь – выходят. Постой-ка, я сердце послушаю.
И он, став на колени, торопливо, дрожащими руками начал расстёгивать крючки кафтана. Наконец кафтан был расстёгнут, и Вельяминов прижался ухом как раз к тому месту груди, где чернела ранка.
Прошло несколько мгновений, показавшихся Сенявину и старому князю целою вечностью. Затаив дыхание, они старались по лицу Вельяминова угадать, слышит он или нет биение сердца. И чем дольше тянулась неизвестность, чем дольше прислушивался Вельяминов, тем печальнее становились их лица.
– Нет, – шепнул старый князь, – должно, ничего не слыхать…
И голос его дрогнул, оборвался, и в нём послышалось рыдание.
Но вот Вельяминов поднял голову и с весёлой улыбкой воскликнул:
– Жив, жив, ей-богу, жив! Хоть и тихо стучит сердце, а всё ж стучит!..
– Ну, слава Богу! – истово перекрестился старый князь. – А уж я, было, всякую надежду потерял.
– Ну, теперь медлить неча, давайте-ка дотащим его до колымаги, а там поскорее к дому!
И с этими словами Вельяминов приподнял почти бездыханного Барятинского за плечи и крикнул Сенявину:
– А ты, Митя, бери его за ноги.
– Нет, так неудобно, – вступился старый князь, – этак, коли он ещё жив, вы из него дорогой всю душу вытрясете.
– Так не бросать же его здесь! – заметил Сенявин, уже схвативший Барятинского за ноги.
– Зачем бросать! А мы лучше вот как сделаем: положите его на мою шубу да и несите бережно, чтобы тряски не было. Да рану-то чем-нибудь заткните, а то он весь кровью изойдёт.
Пока Вельяминов затыкал всё ещё сочившуюся кровью рану обрывком рубашки, старик скинул с себя свою бархатную, подбитую соболем шубу и разостлал её на снегу. Затем они все втроём бережно переложили Барятинского на шубу и медленно понесли его по тропинке, по которой какой-нибудь час тому назад они шли, так весело смеясь и болтая. Всё время, пока происходила эта сцена, князь Долгорукий и его спутники держались особняком, молча поглядывая на то, что происходило около тела Барятинского. И только тогда, когда печальная процессия скрылась за стволами жалобно шумевших под набежавшим ветром сосен, Алексей Михайлович швырнул в снег пистолет, который всё ещё держал в руках, и воскликнул со злой, нехорошей улыбкой:
– Вот дураки-то! Они и впрямь надеются, что он оживёт.
– А ловко ты его, князенька, смазал! – отозвался один из его сотоварищей, прапорщик Барсуков, – кажись, в самое сердце угодил.
Долгорукий с самодовольным видом потёр руки.
– Да уж, это по мне! Охулки на руку не положу[55]! Тоже, дурак, сатисфакции захотел!
– Да из чего у вас дело-то вышло? Расскажи толком! – спросил другой секундант, князь Лысков.
– Да всё из-за этой, из-за княжны Анны Васильевны.