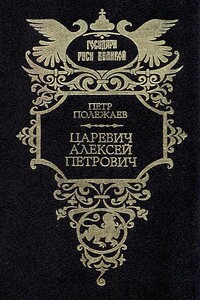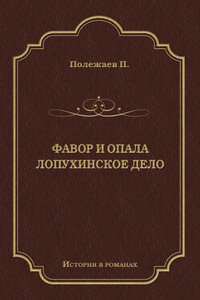Он был молчалив и как-то угрюмо-сосредоточен, представляя полнейшую противоположность говорливым молодым товарищам. Их весёлый смех, их непринуждённая болтовня, казалось, ужасно неприятно действовали на него. Он даже порывался заметить им это, но почему-то сдержался, промолчал и только ещё суровее сдвинул свои густые брови, отчего на лбу легла резкая глубокая складка.
Но молодые офицеры как бы и не замечали гримас своего пожилого спутника. То проваливаясь в снег, то выбираясь на тропку, они продолжали болтать без умолку, оглашая своими молодыми звонкими голосами торжественную тишину рощи.
– Далеко ещё идти? – спросил один из преображенцев, высокий, немного даже тучный брюнет.
– А что, князенька, устал, что ли? – отозвался другой, тоже рослый и тоже чернявый преображенец.
– Устанешь тут! – заметил первый. – Ишь, дорога-то, ровно чёрт её стлал. Я, почитай, раз двадцать в преисподнюю лазил по грудку. Вон Степанычу, – кивнул он в сторону низенького рыжеусого офицера, уверенно шагавшего по снежному ковру, – ничего… Он на паркете ровно…
– Так небось Вельяминов это место как пять пальцев на деснице знает; он уж сюда не впервой шагает. Так, что ли, Миша?
– Знамо, так! – откликнулся Вельяминов. – Чай, на третьей дуэляции в секундантах числюсь.
– Ну, ты, опытный секундант, скоро ль мы придём? – воскликнул тот, которого назвали князем.
– Скоро, скоро, – успокоил его Вельяминов. – Ещё шагов сорок, – мы и у места. Такая чудная лощинка есть – моё почтение. Для сатисфакции, кажись, лучшего места и не найдёшь. Да ты чего торопишься-то? – вдруг расхохотавшись, задал вопрос Вельяминов. – Трусит твоё сиятельство аль с храбрости терпенья нет?
– Трушу! – воскликнул брюнет, даже остановившись на минуту. – Шутишь, Мишенька! Из рода князей Барятинских трусов пока не выхаживало.
– Да будет, не кипятись; конечно, шучу, – поспешил заметить Вельяминов. – Ведь ишь разгорелся – полымем вспыхнул. Сенявин, погляди-ка на князеньку…
– Да что на него глядеть-то, – отозвался Сенявин. – Чай, известный задира. Ни врагу, ни другу спуску не даст.
– Ну уж, будто и я таков?! – возразил Барятинский.
– А то нет, что ли… А с Долгоруким-то с чего рассорился. Так, с пустяков…
– Хороши пустяки!..
– А вот и полянка, вот и пришли! – крикнул Вельяминов, первым сворачивая из лощины, по которой они шли от самого Сущёва, на небольшую ложбинку. Снег на этом месте был усердно примят. Очевидно, эту ложбинку посещали, и нередко. И действительно, здесь разыгралось в последнее время немало кровавых драк… Великий преобразователь, искоренявший с неослабной энергией всё, что только напоминало «долгополую старину», одним из первых уничтожил Божий суд и взамен его велел спорщикам и обиженным являться к себе, – «дабы без послабности разрешать их обиды и споры кровные, понеже до чести касаемо». Но, конечно, немногие и даже очень немногие понесли свои личные обиды, свои частные дела на суд грозного царя, тем более что и царю, занятому то беспрерывными войнами, то постройками городов и кораблей, было мало времени заниматься спорами между подданными. Страх был силён, разрешение обид «Божьим полем» из страха царского гнева сначала оставили, но потом снова принялись за поединки, понятно, уже не гласно и не торжественно, как прежде, а втихомолку, потайно, в глухих местах, куда не мог бы достать зоркий глаз царского наместника Юрия Ромодановского. И вот чаща Сокольничьей и Марьиной рощ стала скрывать за своими вековыми стволами поединщиков. Спервоначала поединки сильно смахивали на прежний Божий суд – дрались в полных доспехах, мечами, чуть не палицами. А потом люди, побывавшие за рубежом, в иных землях, в неметчине да во Франции, привезли оттуда рассказы о дуэляциях, и дуэляции сменили окончательно древний «Божий суд», но ложбинка в Марьиной роще, как и прежде, осталась излюбленным местом для встречи горячих голов, жаждавших смыть обиду кровью обидчика, желавших «сатисфакции» с оружием в руках.
И эта пресловутая ложбинка была очень удобна для таких «честных встреч». Достаточно удалённая от Сущёвской слободы, она была со всех сторон окружена высокими соснами, точно безмолвная стража оберегавшими её от нескромного взгляда любопытных. Здесь, на этой полянке, нередко, особенно в последнее время, после кончины грозного царя, обещавшего повесить и живого и мёртвого из поединщиков, слышалось лязганье сабель и рапир, с гулом раскатывались пистолетные выстрелы, сопровождаясь жалобным стоном раненых… Много кровавых историй могли бы поведать тёмно-зелёные сосны, меланхолически глядевшие на ложбинку, глухо шумя под ветром своею иглистою листвой; много стонов подслушали они, много крови перевидали они на притоптанной траве летнею порой, на примятом снегу зимних дней. Яркое солнце сушило кровяные лужи, снег заносил их, но в памяти хвойных великанов запечатлелась каждая капля этой крови, каждый вздох несчастных людей, сражённых пулею или клинком противника…