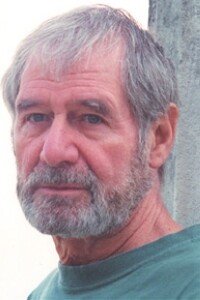Посетили, само собой, Нотр-Дам. Там господин из Якутии обнаружил в чаше воду, уточнил, святая ли она, и, получив утвердительный ответ, стал умывать лицо, шею и уши, сладко пофыркивая, так что все стали оглядываться.
Но где наш якутский гость? Вот Прохор строго глядит в сторону могилы Наполеона. А его шеф – нашла не сразу – стоит спиной к видам, вцепившись обеими руками в перила, опоясывающие по кругу стену шахты лифта, что внутри башни. Стоит, глядит в пол и трясется – без шуток! Лицо совсем побелело, глаза стеклянные… Шепотом, таким же умоляющим, каким просил в ресторане льда, умоляет меня сжалиться и проводить его вниз! А я ему говорю: «Подпишете контракт – тогда я помогу вам спуститься!»
Несмотря на объявший его ужас, он, однако, заулыбался и немного расслабился, отклеился от перил, и мы смогли потихоньку направиться к дверям лифта, возвращающего людей с небес на землю (тогда как Прохор, усмехнувшись уголком рта в знак прощания, поехал покорять верхушку башни). Спустившись, пошли за мороженым. То есть это я пошла за мороженым – хоть оно и ледяное, но увы – сладкое, что для нашего взыскательного гостя было совершенно неприемлемым.
Чувство юмора у него было превосходное. Вообще, смеялся он много, смущаясь своего смеха и закрывая ладошками лицо. Мне было с ним легко, несмотря на все его капризы. И даже тогда, когда я попросила его спеть что-нибудь исконное, оттуда, с края света, – он не стал ломаться и говорить, что сегодня не в голосе, а просто запел, да так, что я застыла от изумления. Застыла внутренне, потому что была за рулем и пение было направлено мне в затылок. Это был тот необычный двойной звук, одновременное сочетание фальцета с низким гудением: такой звук редко кому доводится слышать вживую. Отсутствие земной середины повергло мои чувства в беспокойство: резкий пронизывающий фальцет заставил волосы шевелиться на голове, а вибрация низких утробных звуков поколебала мою уверенность в моей принадлежности к культурной цивилизации и Homo sapiens.
Посетили, само собой, Нотр-Дам. Там господин из Якутии обнаружил в чаше воду, уточнил, святая ли она, и, получив утвердительный ответ, стал умывать лицо, шею и уши, сладко пофыркивая, так что все стали оглядываться. Я, отвернувшись, изучала витражи, словно видела их впервые.
Прощаясь в аэропорту, я его поцеловала по-европейски, дважды в щечку – справа, слева. И вдруг он говорит: «Можно мне попрощаться с вами по-нашему?»
Я немного оторопела – кто знает, что за стиль прощаний, он явно не имел в виду троекратного русского целования… Но мне было, во-первых, любопытно, а во-вторых – неудобно, и я сказала: «Ну давайте…»
Он приблизился, нарушая приличную дистанцию, восстал на цыпочки, ухватив крепко мой локоть (мне пришлось невольно склонить голову, чтоб достал), прижал блинное лицо к моей щеке, что вышло неожиданно ловко, потому что носа у него, кажется, вовсе не было – и шумно втянул ноздрями воздух (то есть нос все-таки был), так что щека моя затрепетала, как платок от ветру на площадке Эйфелевой башни… Это было не эротично, нет, но все ж волнующе – потому что ново. Смысл такого целования в том, объяснил он, чтобы унести с собою в Якутию мой запах.
А контракт он так и не подписал. Ну, это часто бывает. Это бизнес. Я могу, имею право сказать «это – бизнес»: сама развиваю, сама вкладываю, сама зарабатываю и снова вкладываю… И сама получаю по морде, иногда необычным способом.
Я тут подумала: не было у него никакого чувства юмора. И там, на башне, смеялся он не над моей шуткой, а надо мной. Его намерения умели двоиться, как голос. Фальцет симпатизировал мне и мечтал оснастить больницы, а утробный звук прекрасно знал, что ничего не подпишет.