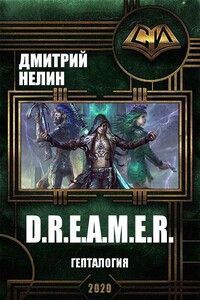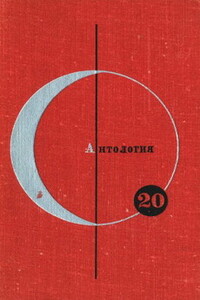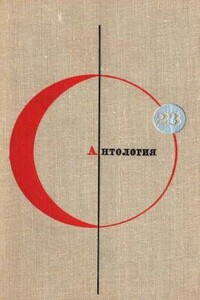Он насторожился и, казалось, начал что-то понимать.
— Вы забрались в машину и включили ее… В параллельной конструкции лежал диктатор, помните?
На лице его отразился ужас, он отвернулся. Другого нуги не было: пришлось прыгать головой в воду. Сняв висевшее над умывальником зеркало, я поднес его к постели. Он бросил мгновенный взгляд на свое изображение и с душераздирающим криком — не думаю, что диктатору доводилось когда-нибудь испускать такой вопль — закрыл лицо руками и потерял сознание.
Когда я привел его в себя, он разрыдался. За свою врачебную практику я видел много отчаяния, еще больше слышал плача, но так рыдать может лишь тот, кто потерял больше всего на свете — самого себя… Собственно говоря, лишь сейчас я вдруг осознал, что произошло, что мы сделали, точнее, что сделал я. Ведь это моя не продуманная до конца идея рикошетом ударила в другого человека…
Наконец, применив сильнейшие средства, мне удалось его успокоить, усыпить. Сам смертельно измученный, я повалился на кровать…
25 ноября. Сегодня, к счастью, я проснулся, вернее говоря, очнулся раньше, чем он. Я пишу “он”, потому что не знаю, каким именем его называть. Сидя возле его постели, я ждал. Когда он пробудился, я поздоровался:
— Доброе утро, господин президент! Как вы себя чувствуете? — Лицо его исказилось, я понял, что он снова может потерять сознание. Самым ласковым тоном, на который только был способен, я продолжал: — Выслушай меня, сынок! Выслушай очень внимательно и подумай о том, что я тебе скажу. — Я говорил тихо, но с гипнотизирующим спокойствием и решимостью. А его взгляд теперь стал ясным и осмысленным. Думаю, диктатор с момента своего рождения никогда так не глядел на мир…
— Мати… — Кажется, я впервые назвал Фелъсена, по имени, и он слегка повернул ко мне голову. — Не только я, ты и сам знаешь, кто ты. Один из лучших, а может быть, самый лучший нейрохирург мира. Ты обладаешь, энергией молодости. — Тут он поднял руку и сделал отрицательный жест, но слушать продолжал. — Если кто-либо способен видеть вещи насквозь, разгадывать, что скрывается за внешним, ухватывать суть дела, то это мы, именно мы. Это побудило нас взяться за самое великое, что может сделать человек. — Он слушал меня, не прерывая и не пропуская ни единого слова. — И если уж мы взялись, то должны принять на себя и последствия. — Тут мое сердце сжалось. — Я в последний раз называю тебя Фельсеном, последний раз произношу имя Мати. С этого момента ты президент страны Хавер Фелициус и никогда не был никем иным! Сначала будет тяжело, тебе придется привыкать даже к собственному запаху, к множеству вещей, но все наладится. Со временем ты почувствуешь себя в новой коже, как рыба в воде, — пошутил я.
Он не улыбнулся.
Я сообщил представителям совета, что двух его членов через два-три дня президент сможет принять на несколько минут, но никаких вопросов задавать ему нельзя, так как ото может пометать начавшемуся выздоровлению. Абсолютное спокойствие очень важно для полного излечения.
Вечером мне почудилось, будто я слышу орудийный грохот. Мы почти герметически отрезаны от мира, всем необходимым нас снабжают самые доверенные сотрудники института, молча хлопочущие в палате.
27 ноября. В прошедшие два дня состояние больного то резко ухудшалось и грозило гибелью, то вселяло надежду. Эти дни принесли множество волнений, что могло окончиться для меня полным нервным истощением. Надеюсь, в моей жизни ничего подобного больше никогда не повторится.
Вчера утром диктатор казался спокойным, но я заметил, что в нем что-то происходит. Он лежал неподвижно и на мои вопросы отвечал легким покачиванием головы. Я старался незаметно наблюдать за ним, не раздражая откровенной слежкой. Принесли газеты и, чтобы вывести его из оцепенения, я положил их ему на одеяло. Однако результат был непредвиденным. Сначала он машинально перелистывал иллюстрированный журнал, а потом неожиданно издал отчаянный крик и разразился рыданиями. Оказывается, ему на глаза попалось извещение о похоронах Фельсена. С великим трудом мне удалось кое-как его успокоить и усыпить.