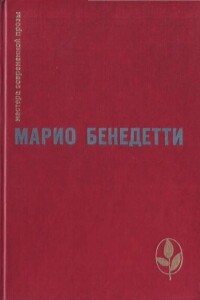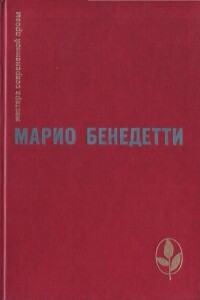Еще она говорила, что по воскресеньям ходит на ярмарку. Я должен с ней поговорить; отправился на ярмарку. Два или три раза показалось, будто я ее вижу. В толпе, среди множества людей, мелькал вдруг знакомый профиль, прическа, плечи, но вскоре фигура вырисовывалась яснее, профиль, прическа или плечи оказывались чужими, сходство исчезало напрочь. А то еще так: идет впереди женщина, и я вижу — у нее походка Авельянеды, бедра Авельянеды, ее затылок. Потом женщина поворачивается — опять чепуха, даже и отдаленно не похожа. Только взгляд ее я не встретил ни у одной. Тут ошибиться невозможно, еще одних таких глаз нет на земле. И как ни странно (я только сейчас об этом подумал), я не знаю, какие у нее глаза, какого цвета. Вернулся домой измученный, оглушенный, расстроенный, злой. Можно, впрочем, сказать точнее: я вернулся одинокий.
Зеленые у нее глаза. А иногда-серые. Я смотрел, вероятно, слишком внимательно, потому что она спросила: «Что случилось, сеньор?» Смешно, что она называет меня «сеньор». «Вы немножко запачкались», — отвечал я, струсив. Она провела указательным пальцем по щеке (она часто так делает и при этом оттягивает веко вниз очень некрасиво) и снова спросила: «Теперь все?» — «Теперь вы безупречны». Я немного осмелел. Она покраснела, и тогда решился прибавить: «Нет, не безупречны, а прекрасны». Кажется, она поняла. Почувствовала что-то особенное. А может, истолковала мои слова как отеческую похвалу? Мне тошно и подумать об отеческих чувствах.
Просидел в кафе на углу Двадцать пятой и Мисьонес с половины первого до двух. Загадал. «Мне надо с ней поговорить, — думал я, — значит, она должна появиться». И «видел» ее в каждой женщине, шедшей по Двадцать пятой. Даже когда во внешности той или другой не было ни единой черты, напоминавшей Авельянеду. Мне было уже все равно, я «видел» ее. Нечто вроде игры или заклятия. (Ну и дурак же я, все ведь зависит от того, как смотреть.) И только когда женщина подходила совсем близко, я внутренне отшатывался, старался больше на нее не глядеть, желанный образ исчезал, грубая реальность вытесняла его. Но в конце концов чудо все-таки свершилось. На углу появилась девушка, я опять увидел в ней Авельянеду, образ Авельянеды. Но когда хотел привычно отшатнуться, оказалось, что реальность — тоже Авельянеда. Господи, что сталось с моим сердцем! Казалось, оно колотится в висках. И вот Авельянеда уже здесь, у моего столика перед окном. Я сказал: «Как поживаете? Что поделываете?» Совершенно естественным тоном, можно даже сказать будничным. Она была несколько удивлена, по-моему приятно удивлена, дай бог, чтобы так. «Ах, сеньор Сантоме, вы меня напугали». Небрежным жестом указал я на стул, предложил совершенно спокойно: «Чашечку кофе?» — «Нет, не могу, как жалко. Отец ждет меня в банке по делу». Второй раз отказывается выпить со мной кофе, но сегодня она сказала «как жалко». Если бы она этого не сказала, я, наверное, искусал бы себе губы, вонзил бы ногти в ладони, швырнул бы стакан об стену. Да ну, чепуха, на что мне подобные демонстрации, ничего такого я бы не сделал. Так и остался бы сидеть, закинув ногу на ногу, обескураженный, опустошенный, и, сжав зубы, не отрываясь, до рези в глазах глядел бы в свою чашку. Только и всего. Но она сказал «как жалко» и вдобавок, прежде чем уйти, спросила: «Вы всегда здесь в это время?» — «Всегда». Я соврал. «Тогда отложим приглашение на будущее». — «Ладно. Только не забудьте». И она ушла. Минут через пять подошел официант, принес еще кофе, сказал, глядя в окно: «До чего хороша птичка, верно? Только глянешь — будто заново родился. Хочется петь и все такое». Тут я очнулся и услышал свой голос: будто старый патефон, с которого забыли снять пластинку, я машинально, сам того не замечая, все повторял и повторял второй куплет песни «Мое знамя».