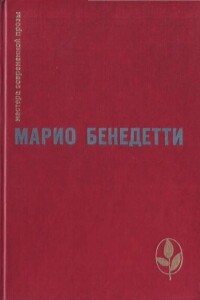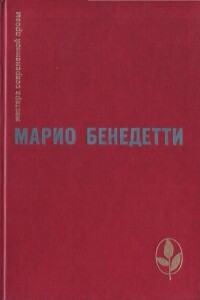Передышка. Спасибо за огонек. Весна с отколотым углом. Рассказы - страница 141
13
Здесь ничто не движется. Не слышно шумов, даже сирен. Сквозь жалюзи льется тусклый свет. Пасмурно? Тем лучше. Сегодня мне как хлеб нужна пасмурная погода. Но эта лавина тишины становится невыносимой. Почему я выбрал этот день? Откровенно говоря, не знаю. Какой-то надо было выбрать. Нога Сусанны, высунувшаяся из-под одеяла, еще меня волнует. Точнее, вот уже неделя, как меня все волнует. В конторе пышнотелая секретарша волнует, однако не своей стыдливо выставляемой напоказ плотью, а просто тем, что и она живое существо. На улице волнует любой из отвратительных нищих, выставляющих ногу с язвой, как и полагается окруженной мухами, с язвой, составляющей его маленький капиталец. В течение рабочего дня меня волнует любой клиент, который мне говорит о том, как чудесно должно быть в Пунта-дель-Эсте, или любой не вполне безликий турист, робко спрашивающий, какое символическое значение имеет вопиющее безобразие Дворца Сальво. Вечером, когда возвращаюсь по Рамбле, меня волнует стена огромных зданий, тень от которых ложится на пляж и придает ему кажущееся уныние. Ночью, когда устраиваюсь с удобствами для очередной бессонницы, меня волнует мое терпеливое, подробное воссоздание Долорес и нашей любовной встречи, и я думаю, что с тех пор видел ее всего два раза, оба в присутствии Уго и Сусанны, и с трудом вынес эту муку — видеть ее рядом, слышать, как она дышит, и не сметь даже взглянуть на нее из боязни, а вдруг она заплачет, или я вдруг прикушу нижнюю губу, или на нас обоих внезапно и одновременно нахлынет желание обняться. В любую минуту, когда Сусанна просыпается и трогает меня или, напротив, я просыпаюсь и к ней притрагиваюсь, меня волнует бедное ее тело, которое мне так знакомо, эта маленькая родинка рядом с большой родинкой, шершавый кружок вокруг соска, шрам на уровне аппендикса, позвонок, торчащий чуть больше, чем прочие позвонки, теплое лоно, блестящие коленки. И всегда, особенно при мысли, что я должен его убить, меня волнует превращение Папы в Старика, превращение, похожее на смерть, потому что я им восхищался, любил его, чувствовал в нем опору, защиту, приют; меня волнует мысль о собственном сиротстве не потому, что я теперь должен его убить, но сиротстве из-за смерти Мамы и еще из-за смерти Папы, когда он превратился в Старика, в трижды чужого чужака, которого я боюсь и ненавижу до прямо-таки нестерпимого накала. Где я буду завтра? Сегодня день настал. И этот столько раз повторенный жест руки, тянущейся к будильнику, чтобы он не звонил в намеченный час, раз я уже не сплю, и не пугал Сусанну, жест, который я делаю с полным сознанием, что это конец рутине, превращается тем самым в некий важный акт, и будильник в его черном портативном футляре тоже меня волнует, и я думаю о том, сколько раз я тянулся рукой, чтобы его приглушить или чтобы не дать ему прозвонить в отелях Буэнос-Айреса и Рио, Нью-Йорка и Лимы, Сан-Франциско и Вальпараисо. Вот оно, одиночество, но это не первое мое скорбное одиночество. В тот вечер в Такуарембо