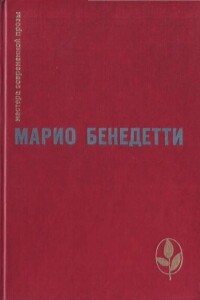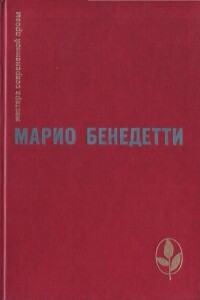— Видишь ли, вам, у которых Маркс разобран по цитатам и с уст не сходит теория относительной прибавочной стоимости, не мешало бы время от времени вспоминать, что Маркс говорит о политической экономии, науке о богатстве, как о подлинно моральной науке, самой моральной из всех наук. Не приходилось ли вам задуматься над тем, что, обличая отчуждение индивидуума при капиталистическом строе, марксизм, по сути, предлагает изменить знак этой моральной науки? Что будете вы делать, ты и все твои безгалстучные революционеры, если осуществится изменение структуры, как любите вы говорить, и эта новая, измененная структура перейдет немедленно во власть кучки безнравственных, честолюбивых, коварных подлецов? Согласен, изменить структуру — это великолепно, но вам надо позаботиться о том, чтобы одновременно изменилась мораль этого народа, иначе от перемены не будет проку и, будет ли это эволюция или что еще, она окажется бесполезной. Не задумывался ли ты о том, что в этой стране царит беспробудная политическая апатия, некое коллективное пожимание плечами — возможно, потому, что былые социальные завоевания достались народу, который их еще не требовал. По этой причине нас, находившихся в авангарде континента, теперь все опередили, теперь у всех в Америке больше социальной сознательности, чем у нас, все они быстрее осваиваются с переменами в мире, и, когда настанет момент той Великой Перемены, о которой вы мечтаете, ты увидишь, что наш Уругвай, такой чистенький, демократический, уравновешенный, такой образцовый для Америки, славившийся своей свободой и, однако, оказавшийся в безнадежном застое, самым последним, поймет урок истории, последним расстанется со своим пышным ритуалом лицемерия.
— Вот все вы такие: понимание как будто у вас есть, но, по сути, вы сеете разложение. Вы умеете только перечислять недостатки, изъяны.
— О нет, Густаво, различие лишь в темпе. Я полагаю, что единственно надежная перемена может быть достигнута политическим просвещением, а это требует времени. Ты же считаешь, что перемена будет внезапной, что она сразу созреет или что-то вроде того. Помню по себе, что, когда человеку нет двадцати лет, все кажется неотложным, да и в самом деле неотложно. Но признать некую потребность безотлагательной еще не означает, что ее удастся удовлетворить немедленно. Дай бог, чтобы ты и твои друзья оказались правы, но, на мой взгляд, есть только, два пути приобретения политической сознательности: один — это голод и разорение, второй — просвещение. Мы не испытали ни голода, ни разорения, по крайней мере в такой степени, как другие народы в Африке или в Америке, и вдобавок не знали надлежащего просвещения. Потому нас так мало волнует подлинная политическая перемена, зато очень волнуют злоупотребления и аферы политиков. Я разумею тупой бюрократический карьеризм, систему клубов, блаженную нирвану пенсионеров, продажность всех оптом и в розницу. Вы строите свои планы, исходя из народа, предварительно вами идеализированного, но сам-то этот народ еще не дал своего согласия на декларированную вами идеализацию. И пойми, все, что я говорю, отнюдь не направлено ни против народа, ни против вас. Вы замечательные парни, и у вас самые лучшие намерения, я это признаю, но вы делаете ошибку, увлекаясь экономическими схемами — вдобавок чужими — и забывая о реальности; народ у нас тоже замечательный, и это изумительный сырой материал, но, чтобы этот материал был годен к употреблению, необходимо его просветить. У нас здесь все умеют читать и писать, но не умеют политически мыслить, кроме как с точки зрения своей должности или своей пенсии. Одни проблемы можно решить лозунгами, другие — нет. Попробуй, например, провести опрос об аграрной реформе, и ты столкнешься с тем, что самые ярые ее защитники — это люди с образованием, интеллектуалы, студенты. Средний класс стремится вверх, у большинства из них есть и кое-какой запасец в виде недвижимости. Но я предложу тебе проехаться по сельской местности, и если ты встретишь крестьянина, молодого или старого, который при упоминании об аграрной реформе не испугается или откровенно и решительно не отвергнет эту возможность, придется тебя наградить орденом или, что куда проще, тебе не поверить. Пойми, что — по крайней мере теперь — у нашего пеона нет привязанности к земле, ему нравится чувствовать себя кочевником. Таково его смутное и авантюрное представление о свободе — знать, что нынче он может объезжать лошадей здесь, завтра стричь овец там, знать, что он ни к чему не прикреплен, или хотя бы верить в это; чувство, унаследованное от гаучо, по мнению людей сведущих. Так что, прежде чем наряжать их в чирипа