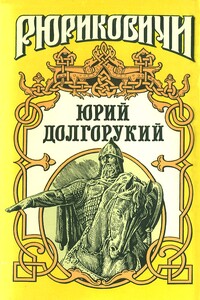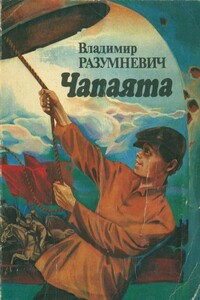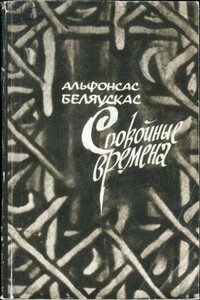После разгрома белых на юге шахты Донбасса еще не были восстановлены, нефтяные скважины Баку залиты водой. Поэтому основным видом топлива по-прежнему оставались дрова. И по решению губернского исполнительного комитета все подмосковные уезды по разверстке обязаны были за зимние месяцы подвезти в Москву для ее кое-как работающих заводов необходимое количество возов с заготовленными в местных лесах дровами. За первую половину зимы уезд уже поставил «Москвотопу» двести возов. Теперь, до полной ростепели, следовало отправить еще сто, а подвод не хватало. Все, что местные учреждения, крестьяне и частные лица обязаны были во исполнение декрета о всеобщей трудовой и гужевой повинности выполнить, было выполнено. Один лишь монастырь, его игумен Никодим, под разными предлогами до сих пор не дали ни одной подводы. Неделю назад, в ответ на очередное требование исполкома, игумен прислал витиевато написанный очередной отказ, смиренно утверждая, что монастырская братия живет бедно, питается скудно, пашет и сеет сама, сама же и убирает свой урожай. Для этого, верно, есть две-три лошади (хотя в монастырской конюшне их было десятка два). «Однако же при бескормице, охватившей несчастную, прогневившую бога Россию, кони лишились последних сил, а поэтому трудовой повинности нести не могут…»
План поставок топлива в Москву следовало выполнить во что бы то ни стало, и, возмущенный отказом настоятеля, председатель уездного исполкома решил снова, и уже в последний раз, направить в монастырь представителя местных властей со строжайшим письменным распоряжением: в ближайшие два дня, а именно рано утром в четверг, пригнать к зданию исполкома десять подвод со своими возчиками для перевозки дров в Москву с одной из лесных делянок. На требовании — расписаться. Невыполнение повлечет за собою…
Дело было щекотливое. Поэтому начальник местной ЧК Дылев пригласил к себе для беседы секретаря уездной комсомольской организации, одновременно исполняющего должность секретаря волисполкома Мишу Вострикова и трех его помощников-комсомольцев, которым предстояло вручить игумену Никодиму распоряжение исполкома. А на следующее утро Антошка Головин, Филька Тимохин и Гриня Шустин во главе с чуть более взрослым, чем они, предводителем отправились в монастырь — «вручать меморандум», как вполне серьезно заметил при этом строгий, решительный Миша.
2
Антошка с Филькой охотно согласились «прогуляться» с Мишей в монастырь. До Октября, а некоторое время даже и после него, на пасху или в престольные праздники, они бегали туда из поселка на церковные службы.
Не молиться, нет: какая еще молитва! Просто в те дни можно было пожевать что-нибудь в трапезной, если поможешь монаху-повару почистить картошку, помыть посуду, вынести помои. За это разрешалось также подняться на колокольню и под строжайшим присмотром старого звонаря потрезвонить час или два. Стоишь наверху, над всей монастырской усадьбой, над крышами ближних деревень, вровень с соседним лесом, и тянешь веревку большого колокола, дергаешь веревки других колоколов что есть силы. Наяриваешь так, что звон твой слышно небось до самой Москвы. А уж что ребята в родном поселке услышат и после с завистью спросят: «Опять звонил?» — само собой ясно!
Правда, за это приходилось смиренно помогать монахам и во время церковной службы: оденут тебя в мальчишечий сарафан… стихирь, что ли? — и таскай за батюшкой разную дребедень. Зато по ходу службы можешь время от времени пройти за «царские врата» в алтарь и, когда дядьки-монахи зазеваются, хлебнуть из чаши «святого» винца по названию «кагор».
Из-за этого кагора, наполовину разбавленного теплой водицей, их обоих в конце концов и прогнал одноглазый иеромонах Панфил. Одноглазый, а увидел. Как Филька ни клялся, что получилось нечаянно и что больше они с Антошкой не будут трогать просвирки и вино, как ни пытались потом раза два со смиренным видом явиться опять в монастырь на праздник, Одноглазый гнал их взашей. А в тот первый раз, увидев, как Филька пьет из причастной чаши, попросту вытянул его, а с ним и Антошку, из алтаря наружу за уши да еще наддал сапогом под тощие зады.