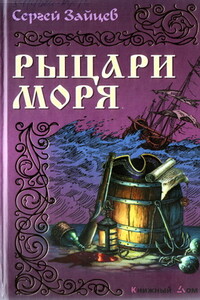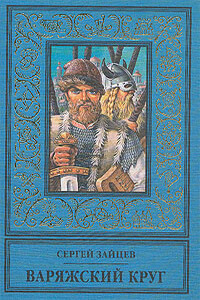Кто-то говорит, что видел, как азиаты коптят в кишке конское ребро. Пробуем и мы; идём к трупу лошади, уже основательно ободранному, и выламываем из скелета рёбра. На рёбрах кое-где ещё сохранились кусочки мяса. Затем в поисках подходящих кишок роемся в окровавленных потрохах... Ссоримся, сквернословим, хватаем друг друга за грудки. Мы так злы, что не в состоянии держать себя в руках и всё чаще забываем о достоинстве. Мне думается, что со стороны мы сейчас выглядим безобразнее самого дикого азиата: и это мы — сыновья прекрасной, просвещённой Франции!..
Однако никто из нас и не думает терзаться от стыда. Чего ради! Перед кем мы должны испытывать стыд? Где тот благородный непогрешимый судья, мудростью которого мы все могли бы гордиться и возле кристально чистой фигуры которого могли бы устыдиться своего повального свинства?.. В последнее десятилетие всё величие и могущество Франции только и отождествляются что с именем Наполеона. Но разве можем мы гордиться им — не созидателем, а разрушителем, разве можем мы гордиться судьёй неправым, душителем Европы (о, с какой ясностью я это сейчас понимаю!), и в первую очередь — угнетателем самой Франции? Сияние нашей славы, сговорчивость, а то и послушание союзников (правда, чаще с кислой миной), всё более очевидное с каждым годом лидерство, расширение границ, усиление влияния, успехи в торговле — всё это результат политики насилия, захвата, разрушения, а вовсе не результат мудрого управления; гром наших побед — литавры Смерти, бесчисленные контрибуции — кровь миллионов людей, а Франция, некогда благословенная страна, — ныне безобразный кровосос, ужас народов. Деяния наши недостойны деяний великой нации. Мы презренные гунны, мы убеждаем и завоёвываем не силой разума, не совершенством своей идеи, а самым что ни на есть примитивным средством — войной. Должен ли я, гунн, пребывая в типическом для меня состоянии варвара, испытывать стыд перед своим королём Аттилой?.. Но, Господь свидетель, — мои глаза уже давно устали быть злыми.
О, отец! Как и всякий родитель, ты, конечно, хотел видеть в сыне воплощение своих идеалов. Прости же мне мои воплощения... Сначала я был солдатом, неустрашимым и послушным приказу, потом оказалось, что я мясник, неутомимый и исполнительный, а потом я обратился в гомункула; да, да, мы все — вульгарные гомункулы, как две капли воды похожие друг на друга, гомункулы, коих сотнями тысяч можно растить в колбах алхимиков, коим соответственно и цена — грош. У нас, кажется, нет лица, у нас главное — завидущие глаза, загребущие руки и ненасытные желудки; увы, желудки — самое сложное в нашей организации; всё, что мы сейчас делаем, — делаем для них. Но и состояние гомункула ещё не конец нашим превращениям. Мы вступаем в последнюю стадию — стадию скотов, холодных и голодных, грязных, окровавленных, без всякой надежды на будущее, как будто росли только для того, чтобы однажды попасть под нож. Наше новое главное качество — тупость; теперь нам достаточно знать лишь две вещи: беги оттуда, где щёлкает бич, беги туда, где звучит рожок, — остальное слишком сложно. Я не думаю, что кто-нибудь из нас, если по случайности выживет, будет вспоминать эту кампанию с удовольствием или с гордостью участника её. Кому приятно вспоминать собственное скотство?
3 ноября
Наши передовые части ввязались в крупное дело у городка Красного. О том, что дело крупное, мы догадываемся не только по усиленной канонаде, но и по большому количеству раненых, поступающих в наши обозы. Раненым наспех оказывают помощь и на этом о них забывают. Едва ли не треть от всех, получивших ранения, способны двигаться самостоятельно и как-то обиходить себя. Кого-то ещё поддерживают друзья — не теряют надежды. Но многих, тяжёлых — в лихорадке, в бреду, мучимых болью и беспомощных, — лекари оставляют на дороге, оставляют, уповая на то, что русские их не прикончат. Не дикари же эти русские, чтоб добивать раненых!..
Мой Бог, согреться бы сейчас трубочкой табака! У нас табак — неслыханная роскошь...
Близ Красного, 5 ноября
Ещё один позорный акт с нашей стороны — сожжение знамён. Сожжение — как признание неспособности сохранить их, защитить честь и славу французского оружия, — уничтожение символов, объединяющих войска, напоминающих нам о верности присяге, символов, как бы выражающих саму Францию. Ничто больше не связывает нас, мы уже не армия, мы шайка разбойников, возвращающихся в своё логово, мы толпа бродяг, мы горох, просыпанный на дороге. Сожжение знамён — это избрание из двух зол меньшего. Но и это меньшее не украсит нашу историю, как известно, язвы не украшают... Представляю, как это было. Французские орлы кланялись тёмным российским лесам, полотнища, подружившиеся с ветрами целой Европы, повидавшие и сражений, и подвигов, пропахшие пороховым дымом, простреленные многими пулями, покорялись пламени с тем же смирением, что покорялась бы ему видавшая виды, затасканная, залапанная ночная рубашка потаскухи, а гордые древка, отполированные руками героев, обращались в дрова, обогревающие косточки треклятого корсиканца.