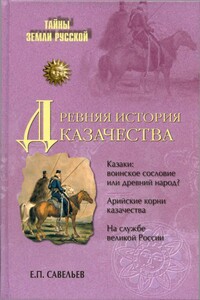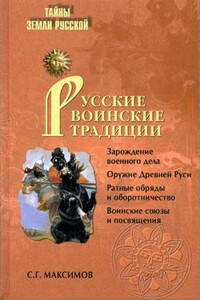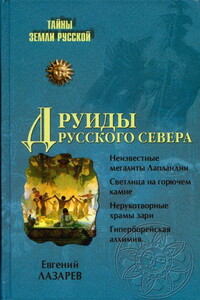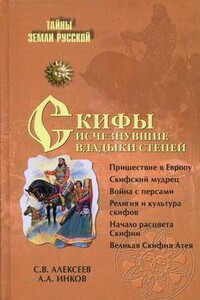Мы приводили факты сожжения сел и городов, увода в плен жителей, пусть же теперь современник первых набегов сам расскажет нам о народных бедствиях, которых он был очевидцем. Картину, полную страшного трагизма, рисует он перед нами. «Створи бо ся плачь велик у земле нашей и опустеша села наша и городе наши, и быхом бегающе и перед враги нашими». «Ибо лукавии сынове Измаилове пожигаху села и гумьна, и мьноги церкви запалиша огнем… овии ведутся полонене, а друзии посекаеми бивают, друзии на месть даеми бывают[270], и горькую приемлюще, друзии трепещуть зряще убиваемых, друзии гладом умориваемы и водною жажею… ови вязани и пятами пьхаеми, и на морозе держими и вкаряеми… мучими зимою, и оцепляеме у алчбе и в жаже, и в беде побледевше лици и почернивше телесы; незнаемою страною, языком испаленом, нази ходяще и босе, ногы имуще избодены терньемь. С слезами отвещеваху друг-другу, глаголюще: “аз бех сего города”, а другии: “аз сего села”; и тако свопрошахуся со слезами род свой поведающе… “Согрешихом и казнимы есмы, яко согрешихом, тако и стражем: и граде вси опустеша, и переидем поля, идеже пасома быша стада, коне, овце и волове, се все тще ныне видим, нивы порожьше стоят, зверем жилища быша»[271].
Какая характеристика набегов может стать рядом с этой простой, полной глубокого чувства, картиной народных бедствий. Вся эта масса пленного христианского люда или обращалась в рабов в вежах половецких, или, как товар, шла по разным странам юга и востока. Еще писатель Х века Ибн-Гаукаль рассказывает, что Джурджание был рынок живого товара, в состав которого входили и славянские рабы[272]. Эта дорога, по которой шли русские люди, навсегда покидая родную землю, не изменилась, конечно, и во времена господства в степях половцев. Этим путем снабжались русскими рабами рынки Центральной Азии.
Другая дорога вела в Крым, где главными пунктами торговли подобным товаром можно, кажется, считать Судак и Херсонес. Мы имеем известие, что в последнем городе скупкой рабов занимались евреи[273]. Но прежде чем быть проданными, пленные некоторое время оставались в вежах, в ожидании себе покупщика или выкупа со стороны русских. Мы знаем только один случайный факт выкупа на поле битвы. В 1154 г. Изяслав Давидович, после бегства Ростислава и Мстислава под Черниговом, выручил многих из их дружины, попавших в руки половцев. Обыкновенно же приходилось родственникам отыскивать своих родных по половецким кочевьям. Выкупить пленного считалось богоугодным делом, и потому частные лица являлись иногда в вежи и освобождали своих земляков от тяжкого рабства. Мы видим пример такого великодушия в старании некоего христолюбца выкупить инока Никона, который, как кажется, был освобожден потом своими родственниками или отбит каким-нибудь русским отрядом[274].
Ценность выкупа соразмерялась с общественным положением пленника на Руси. Так, по рассказу летописи, на какого-то Шварна, захваченного за Переяславлем, половцы «взяша искупа множьство»[275]. Конечно, более знатные и богатые пленники были долее удерживаемы в вежах, а те, на выкуп которых половцы не могли скоро надеяться, или если он ожидался в незначительном размере, шли на рынки и рассеивались по лицу земли на юге и востоке, а, может быть, и на западе. Из раньше приведенного рассказа летописи, рисующего картину разорения, мы имели случай видеть тяжкое положение пленных. Многие из них не выносили постоянных передвижений за вежами в оковах; от жажды, зноя или холода они умирали в большом числе. Так из пятидесяти пленных, захваченных однажды половцами в Киеве, через десять дней остался только один инок Евстратий[276]. Надо, однако, сказать, что русские не уступали нисколько своим врагам в обращении с попавшимися к ним в руки. Даже тех, на выкуп которых можно было надеяться, держали в оковах, как это видно из сказания о пленном половчине. Рабы покупались на золото; таким же образом, кажется, русские выкупали и своих земляков, но половчин приносил за свое освобождение товар, который ценился на Руси: он пригонял табун лошадей, а может быть, и другого скота