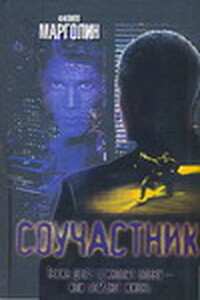Когда отец бывал в таком расположении духа — а выпивка только ухудшала положение дел, лишала его сдержанности, — ужин превращался в ад. Однажды я сидел за кухонным столом, глядя на потолок, с которого на шнуре с коричневой оплеткой свисала лампочка без абажура. У меня была манера погружаться в мечтания в этой тесной, маленькой кухне с лязгающими кастрюлями, текущим краном и вечным запахом вареной капусты, отчего те отвратительные ужины становились терпимыми. Снаружи сумерки переходили в ночь, с железной дороги доносился пронзительный свист проходящего пригородного поезда. Мать поставила передо мной тарелку с вареной картошкой, вареной капустой и тушеной бараньей шеей, мясо отставало от костей серыми волокнистыми лоскутками. Когда я взял нож и вилку, воцарилось жуткое напряжение, я знал, что отец наблюдает за мной, и атмосфера от этого стала еще невыносимее, потому что я и без того был неуклюжим, длинные тонкие руки и ноги плохо мне повиновались. Я отправил в рот большой кусок картошки, но он оказался слишком горячим, поэтому пришлось выкашливать его обратно на тарелку.
— Черт возьми!.. — прошипел отец сквозь сжатые зубы.
Мать, держа вилку над картофелиной, лежавшей, словно перемычка, в подливе, бросила на него быстрый взгляд.
— Не выходи из себя, — негромко сказала она, — мальчик не виноват.
Ужин продолжался в тягостной тишине. Шум поездов с железной дороги не доносился, никакого движения по Китченер-стрит не было. Раздавались только постукивание ножей о дешевый фарфор да мерное плоп-плоп-плоп капель из крана о раковину. Лампочка освещала кухню неярким желтым светом, и я снова таращился на потолок, слегка шевеля губами, прекращал это занятие лишь затем, чтобы снять зубами с вилки кусочек мяса.
— Паучок, поставь чайник, — сказала мать, и я поднялся, задев коленом при этом край стола. Он так качнулся, что отцовская тарелка сдвинулась влево на несколько дюймов. Я заметил, как его пальцы стиснули вилку с только что нанизанной влажной массой белой вялой капусты, но, к счастью, он не сказал ни слова. Я зажег газ. Отец в конце концов доел, положил на тарелку нож с вилкой, оперся о стол, широко расставив локти, и приготовился подняться.
— Опять небось в пивную, — сказала мать, она доедала последнюю картофелину, разрезанную на мелкие кусочки, и не поднимала глаз на отца.
Я бросил на него быстрый взгляд и по играющим желвакам догадался, что отец думает о нас, нескладном, никчемном сыне и молчаливо укоряющей жене. Он снял с крючка на двери куртку с кепкой и молча вышел. Чайник закипел.
— В таком случае, Паучок, завари нам чайку, — сказала мать, поднялась со стула и, украдкой смахнув слезу, принялась собирать грязные тарелки.
После ужина я поднимался к себе в спальню, полагаю, мне следует описать ее, так как очень многое в этой истории основано на том, что я видел, слышал и даже обонял оттуда. Находилась она на втором этаже в задней части, оттуда мне были видны двор и переулок за ним. Помещение было маленьким и, пожалуй, самым сырым в доме: на стене напротив кровати было большое пятно, обои там оторвались, и штукатурка на этом месте буквально начала извергаться — из стены выступали рыхлые зеленоватые влажные комки, похожие на бубоны или язвы, от прикосновения они превращались в пыль. Мать постоянно просила отца сделать что-нибудь, и хотя он как-то заново оштукатурил стену, через месяц комки появились снова — причина крылась в протекавших дренажных трубах и распадавшемся растворе кирпичной кладки; мать думала, что отец в состоянии это исправить, но у него никак не доходили руки. Ночами я лежал без сна и при лунном свете, проникавшем в комнату, глазел на эти смутно видимые комки и наросты, в моем детском воображении они превращались в жировики и бородавки какой-то отвратительной, сгорбленной ночной ведьмы с ужасной кожной болезнью, обреченной за грехи против людей страдать замурованной в скверной штукатурке на старой трущобной стене. Иногда ведьма покидала стену и входила в мои кошмары (я мучился кошмарами в детстве), а когда я просыпался в ужасе среди ночи, то видел, как она усмехается в углу, отвернувшись от меня. Голова ведьмы находилась в тени, и глаза ее сверкали на фоне этой отвратительной шишковатой кожи, запах дыхания осквернял воздух; я садился в постели и истошно кричал на нее; только когда мать приходила и включала свет, ведьма возвращалась в штукатурку, после чего мне приходилось не гасить его до утра.