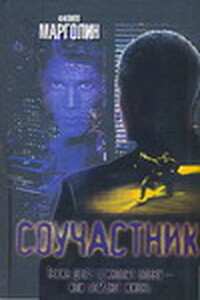Ту предрождественскую ночь я провел в сарае на участке. Отец сразу догадался, чьих рук это дело.
— Где он? — услышал я, и тут же раздались шаги по лестнице. Он появился в двери моей спальни, весь дрожа от ярости, глаза его сверкали, нижняя челюсть с оскаленными зубами выдавалась вперед.
— В погреб, — приказал он, — живо!
— Убийца, — произнес я, стоя на коленях возле своих насекомых.
— Живо!
С этим словом он широко шагнул вперед и, схватив меня за воротник, чуть ли не поволок по полу. Потом мы спустились по лестнице, я, задыхаясь, впереди, он сзади. Когда подошли к двери погреба, он выпустил мой воротник, а мне только этого и было нужно. Я пробежал через кухню мимо опешивших Хилды и Норы во двор, отец следом за мной.
— Вернись! — крикнул он.
Калитка, на мое счастье, была брошена открытой, я стремглав выбежал в нее и понесся по переулку. Уже смеркалось; в конце переулка отец настиг меня и, тяжело дыша, притиснул к стене. Я обмяк под его яростным взглядом.
— Убийца, — зашептал я, — убийца, убийца.
Он помрачнел еще больше, лицо его сморщилось в растерянности — что ему делать со мной, с тем, что я знал? Дышал он уже ровнее, а я оставался обмякшим; захват его державших меня пальцев слегка ослабел; я вырвался и побежал со всех ног. Он гнался за мной до конца переулка, но окончательно запыхался, и когда я, спасавшийся, легко одетый, длинноногий мальчишка понесся в сумерки, он повернул обратно и в гневе саданул ногой по мусорному ящику возле стены. Из-под него выскочила черная кошка с рыбьей головой в зубах и убежала в темноту. Отец, прихрамывая, вернулся в кухню, где они с Хилдой наверняка говорили обо мне весь вечер. Однако думаю, что сперва он снял ботинок и обнаружил, что из-под ногтя большого пальца сочится кровь, окрашивая его в черно-красный цвет.
Если вы когда-нибудь вели записи, то, наверно, знаете, что в какие-то вечера почти невозможно выжать из себя хоть одну фразу, а в другое время слова час за часом льются потоком, пока не выскажешься полностью, и потом возникает ощущение, что не ты писал, а кто-то водил твоей рукой? Мне никогда не забыть ту ночь, проведенную в отцовском сарае. Влезать туда я научился уже давно: нужно было сдвинуть на несколько дюймов доску с привинченной железной петлей, в которую входила дужка замка, протиснуться в щель, а потом сильно дернуть дверь, чтобы доска встала на место. Но перед тем, как влезть в сарай, я несколько минут стоял на коленях посреди картофельной делянки. В конце декабря там не было ничего, кроме черной земли, но я пришел не за картошкой. Мать ощутила мое присутствие, я знаю, снизу что-то потянулось ко мне, совершенно явственно, как я и предвидел, нас связывали очень крепкие узы: отцу было не уничтожить их своими шлюхами и побоями. Ощутив ее, я распростерся и зашептал, обращаясь к ней, что именно, писать не стану. Темнота сгустилась, быстро холодало; ночью обещали мороз и снег. Но тогда меня не мог пронять никакой холод, я прошептал матери все, что нужно, потом протиснулся в сарай.
Я знал, где искать свечи со спичками, зажег их все, расставил на полках, на полу, и сарай стал освещенным, как церковь. Потом поудобнее свернулся калачиком в кресле, закутавшись от холода в мешки, и смотрел, как свет от пламени свечей мерцает в паутине среди темноты стропил. Через несколько секунд пришлось подняться и накрыть ящик с чучелом хорька: блеск его стеклянного глаза вызывал у меня беспокойство. Так я лежал, свернувшись в старом кресле и глядя на паутину, вспоминать сейчас об этом странно, казалось бы, я должен был выплакаться и заснуть. Но нет, лежал совершенно бодрый, с сухими глазами, и, как ни странно, успокаивала меня мысль о том, что пауки среди стропил блюдут Паучка.
Я уснул. Когда несколько часов спустя проснулся, кое-какие свечи еще горели, и я ощутил на миг смятение и замешательство; потом сперва слабое, но усиливавшееся ежесекундно чувство покоя и радости, потому что мать была со мной.
Мать была со мной, поначалу туманная, призрачная, но с каждой секундой становилась все отчетливее. Она стояла в освещенном свечами сарае среди инструментов, цветочных горшков и пакетов с семенами. Одежда ее была в сырой черной земле, голову покрывала темная косынка, но каким белым было лицо! Совершенно белоснежным, умиротворенным, сияющим! Эти мгновения прочно вплелись в ткань моей памяти — свет пламени свечей, паутина, поблескивавшая среди стропил в холодном воздухе, только