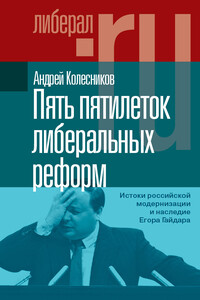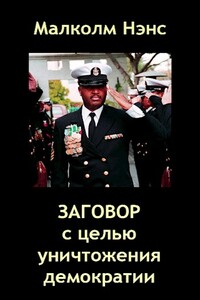Кроме того – снова чаще всего без наводящих вопросов или усилий с нашей стороны, – люди приходили к вопросам, обобщающим ситуацию во всей стране. Иными словами, респонденты сами стремились к тому, чтобы вывести разговор за пределы происходящего лично с ними или с их близкими на уровень, требующий, хотя бы и в воображении, солидаризации и переживания общности их судьбы с судьбами людей, находящихся в той же социальной ситуации, пусть и живущих на другом конце страны. Почти во всех нарративах о повседневной жизни постоянно всплывают фрагменты иного, большого нарратива о могучей, огромной и богатой России. Иногда этот большой нарратив показывается нам иронически, иногда критически, иногда серьезно или даже восхищенно. Это, конечно же, не только результат государственной патриотической пропаганды, но также и следствие относительной социально-экономической стабилизации, сопровождающейся обживанием своего социального места, которое вновь стало возможным после преодоления кризиса девяностых. Однако и патриотическая пропаганда играет свою роль. Усилия руководства страны по улучшению ее имиджа возымели успех – образ России, которой можно гордиться, создает общий фон, проявляющийся по-разному в нарративах разных людей. Но общий фон создает потенциал для появления общности.
Важно отметить, что патриотическая пропаганда производит не только некоторое количество ярых патриотов-государственников, которые, впрочем, составляют меньшинство, но и общее воображаемое пространство, которое можно любить или ненавидеть, хвалить или критиковать, но причастность к которому отрицать невозможно.
Мы интерпретируем обнаруженное в ходе исследования острое переживание социального неравенства как признак социально-критического патриотизма. Такой патриотизм, безусловно, обладает политическим потенциалом: во-первых, здесь появляется чувство общности с теми, кто несправедливо беден и подвергается эксплуатации. Во-вторых, возникает противопоставление «нас» – «им», то есть тем, кто нас эксплуатирует и унижает. В этом противопоставлении возникает и укрепляется «наше» чувство общности, причем против «них», напомним, могут солидаризироваться с бедными не только другие бедные, но и люди относительно обеспеченные.
В картине мира довольно значительного числа респондентов – такие составляют большинство в Астрахани и на Алтае, но и в других городах их более четверти – преобладает образ нации, разделенной социальным неравенством. Такая картина мира и есть социально-критический патриотизм. О нем невозможно говорить как о сознательно политическом, однако политический смысл в нем безусловно заложен; такое видение общества расходится с мейнстримом и кремлевского патриотического, и антикремлевского проекта нации: социальное неравенство почти полностью вытеснено как из официального, так и из оппозиционного политического дискурса. Это означает, что протополитическое сознание, которое развивается сейчас снизу, принимая форму в том числе и патриотического подъема, имеет черты, несхожие с теми, что пропагандируются элитами. В мировоззрении большой части наших респондентов, особенно из широко определяемой категории «трудящихся», заметен стихийный, обывательский, эмоциональный, несознательный (и отсюда не идеологический) марксизм.
Не факт, что сам по себе этот стихийный марксизм или сама по себе стихийная социальная критика, о которой шла речь выше, приведет к переформатированию политического пространства или к возникновению новых партий – левых или социал-демократических. Но российское общество в своем нынешнем состоянии уже очень мало напоминает ту легко управляемую аморфную массу растерянных индивидов, которую мы знаем по девяностым. Повторимся: высокий уровень поддержки Путина совершенно не означает тот же уровень поддержки патриотической пропаганды или нынешнего курса развития общества в России. Путин, как символ нации, в сознании людей часто оказывается недосягаем для критики в свой адрес и вообще существует поверх линий, разделяющих общество. Не стоит, однако, недооценивать как силу социальной критики, так и глубину проходящей через общество трещины социального неравенства. При наличии подходящих обстоятельств то и другое может заявить о себе в любой момент. Яркий тому пример – массовые протесты против повышения пенсионного возраста. То, что они потерпели неудачу, не означает ослабления социальной критики или притупившейся остроты переживания неравенства. Скорее наоборот.