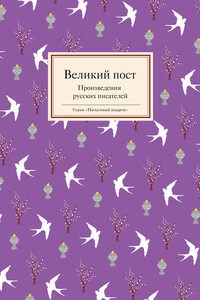И опять тишина и ожидание.
И опять возглас по-славянски…
— И о сподобитися нам… От Иоанна Святаго Евангелия чтение!
— Вонмем…
Архимандрит Макарий читает по-сла вянски.
— Сущу же позде в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным, идеже бяху ученицы его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус и ста посреде, и глагола им: «мир вам!»
О. Макарий кончил… Ап. Фома сказал, что «не будет верить, пока не вложит руки в ребра Его».
Воскликнули певчие: «Докса си, о Феос имоп, докса си…» (Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!)
И снова торжественный звон, и опять пальба… И опять тишина на мгновение, и снова переливы металлических капель, ниспадающих на металл…
— Теперь что будет?
— Вонмем!
Какие это звуки?
— «Юрта гюнлериш бир инда актам вактинти ее саидлер». — И дальше: — «Ве анлере дэти»: «Селам сизе» (мир вам)! — Это турецкое Евангелие.
Восточные христиане его слушают с удовольствием. Они привыкли к турецкому языку; они, по правде говоря, даже любят его. В Малой Азии есть до сих пор много греков, не знающих по-гречески. В их церквах вся служба совершается по-турецки.
После нового звона, новой пальбы, новых ударов милого шарика и новых возгласов из другой стороны храма послышалось нечто очень знакомое, но с непривычки для нас гораздо более странное, чем евангельская речь на языке пашей, языке и наивном, и суровом. Повеяло Римом.
— In illo tempore quum sero esset die illo, una Sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli…
Затем опять — после шумной, «поющей, вопиющей», звонящей, играющей и палящей перемежки — слышу я непонятную мне речь…
— Какая это?..
— Это речь народа без словесности, без грамматики — речь народа, имеющего только горные эпические песни…
Греческие монахи опять улыбаются, как чему-то очень знакомому и даже немного смешному.
— Даги Према у эр ame дщme me стуне.
Это речь албанская, речь знаменитых арнаутов, которых так любил лорд Байрон, которых и я, признаюсь, крепко люблю; речь безграмотных героев, жестоких разбойников и верных до самопожертвования слуг: в христианстве — дававших самую лучшую военную стихию прежним греческим восстаниям, в мусульманстве — свершающих под турецкими бунчуками самые страшные зверства. Странный народ!.. Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажности и злобы, простодушия почти смешного и самой коварной хитрости. Народ-сирота, даже и в прошедшем этнографического родства своего до сих пор не нашедший с точностью.
Вечерня кончилась. Звон и пальба прекратились. На мощеном дворе и в длинных коридорах келий опять воцарилось глубокое безмолвие отдыха.
Из открытого окна моего, сидя, долго смотрел я на розовые, золотые, желтые, бурые и белые кусты как бы ликующей вместе с нами горы, обыкновенно столь мрачной и скучной. Я слушал тихое бряцание колокольчиков на шеях пасущихся мулов; но другие образы и звуки неотступно и восхитительно владели душой моей во весь этот вечер.
Эти возгласы и звон, это чтение Слова Божия… Эти разнородные, несхожие звуки: «Мир вам!» «Эрини имин! Fax vobis! Селам сизе!..» Суровый храм, суровые лики икон, сияние серебра и золота повсюду, — пальба, безмолвие, перезвоны, опять безмолвие; опять молитвенный возглас, опять пальба, и звон, и пение… И тишина, и чтение прекрасное среди благоговейного внимания, едва-едва нарушаемого какой-нибудь улыбкой сочувствия или легкого удивления…
И над всем этим — круговая тихорадостная, непрестающая пляска бесчисленных огней в темной высоте…
— Нет, это в самом деле «праздник из праздников и торжество из торжеств»!..