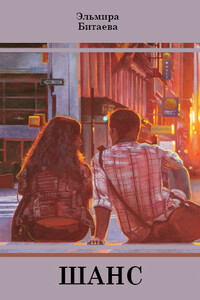— Давай сюда рубашку, — сказала Валенсия, стянула рубашку с головы Линды, и запах Брудера куда-то уплыл.
Линда продолжала думать о своем: что изменилось здесь с того дня, когда Валенсия вышла на берег? Королевская дорога стала шире, неподкованные ослики и лошади уступили место асфальту и автомобилям. Вскоре после рождения Линды Дитер продал немного земли на восточной окраине участка строителю, расширявшему Королевскую дорогу до двух полос. От «Гнездовья кондора» осталось двадцать акров вместе с речкой. Линда вспомнила: еще совсем девчонкой она слышала, как Дитер, волнуясь, говорил: «Эти автомобили меняют все вокруг». А когда ей исполнилось лет семь или восемь, он заговорил по-другому — грустно: «Машины всё у нас тут рушат. Осталось только лагуну асфальтом покрыть!» Он почти угадал — через Агва-Апестосу перекинули мост, и теперь водители срезали целых две мили — им не нужно было ехать вдоль берега.
Линда чувствовала, что прогресс ей больше по нраву, чем отцу, а его сердитое неприятие будущего ставило ее в тупик; стоило завести разговор об этом, как на его лоб набегали гневные морщины, нос заострялся клювом, а похожая на паутину борода начинала воинственно развеваться на ветру. Линда видела: отец стареет.
Ясное дело — Дитер терпеть не мог современные дороги и автомобили потому, что, как он выражался, разбогатели все, кроме него. «Да, отхватил он у меня землю», — повторял он, выходя в поле и видя бесконечный поток машин.
— Почему папу заставили продать землю? — задала Линда следующий вопрос, когда они с матерью продолжили стирку.
— Никто твоего папу не заставлял. Продал первому же, кто подвернулся, вот и все. Вот подождал бы с месяц — выручил бы в два раза больше. А если бы терпения на год хватило, то и в четыре.
Бельевая веревка была натянута между тремя шестами, выструганными из тополя: от ветра ее защищал ряд веерных пальм. Вокруг шестов цвела ромашка, и Линде быстро наскучило вешать белье на веревку и прикреплять прищепками. Она принялась рвать цветы, похожие на маргаритки; Эдмунд, правда, говорил, что они ядовитые, и Линда не очень-то в это верила, но Эдмунд изрекал это так уверенно, что Линда перестала сомневаться. Она сплела из ромашек венок и надела его на голову, как корону — легкую, невесомую, чуть щекотавшую кожу.
Она снова взялась за рубашки Брудера. Они потяжелели от воды и теперь пахли щелоком и дубовыми досками бочки. Пятна исчезли, а вместе с ними ушел и запах. Линда растянула рубашку и подняла ее к солнцу. Пахло только океаном и солнечным светом, сушившим полотно. Она вынула из жестянки пару прищепок и прикрепила ими рубашку к веревке.
— Не нужно вам этого делать, — раздался голос сзади.
— А кто же это будет делать?
— Я сам, — сказал Брудер.
— Ну да!
— Я же вас не просил.
Он прислонился к шесту; штаны его были мокрые до самых колен, и он уставился на нее своим особым взглядом — выдвинул вперед подбородок с жестким волосом, а уголки его рта были приподняты так, как будто он собирался громко и неприлично чмокнуть. Иногда ему хотелось, чтобы Линда выпалила: «Чего же ты хочешь?» Если бы он услышал от нее это, то рассказал бы. Никто и не догадывался, что Брудер — человек осторожный и старается избегать всего незнакомого и, может быть, опасного. С детских лет, проведенных в Пасадене, он привык, что врага надо знать в лицо; в Обществе попечения о детях это не раз спасало ему жизнь, а вот в березовом леске во Франции враг всегда был не тем, кем казался.
— Почему это ты надела венок из маргариток?
Линда пощупала голову; и правда, про венок она совсем забыла. У нее, конечно же, глупый вид — как у маленькой девчонки, которая заигралась в принцессу.
— А… Так это же не маргаритки! Ты ведь в цветах совсем не разбираешься, да? Это ромашка. И с ней надо поосторожнее, потому что она ядовитая. Если не знаешь точно, что это за цветок, надо опасаться.
— А вот и нет.
— Что — нет?
— Ромашка не ядовитая, — сказал он и добавил: — Не ядовитая, точно так же как я и ты.
Она чуть было не сжала кулак и не сказала упрямо: «Нет, ядовитая, ядовитая!» — но прикусила язык. Ведь тогда Брудер спросит ее, откуда она это знает, и придется отвечать, что это ей сказал Эдмунд: а Брудер наверняка рассмеется, широко раскрыв рот, так что будет видна его глубокая черная глотка.