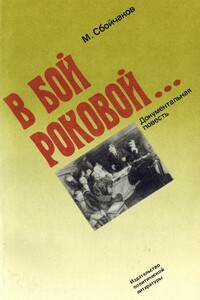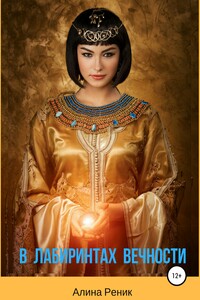— Что это еще за покой?
— Покой находит тот, кто не суетится, не жадничает. Меру во всем знать надо.
— Меру, говоришь? — переспросил Халиль. — Я вот и меру знал, и терпение имел, а в награду могилу получил…
— Я же вам сказал, что дочь Милу из-за несчастной любви покончила с собой, — вмешался Ахмад. — Вы верите, что бывает такая любовь? Вот ты, дядя Халиль, мог бы покончить с собой, если бы так влюбился? Скажи, только честно!
— В наше время про любовь не знали. Я женился на матери Бутроса без всякой любви, даже не видя ее. Моя мать сказала: «Женись на ней, она девушка хорошая», я и женился. Теперь же времена другие. Молодые газеты читают, в кино ходят.
— Из-за этого кино и все беды! Оно и вбивает молодым всякую дурь в голову. Кто только его придумал?
— Не его надо ругать, — сказал Халиль, — а тех, кто людей одурачивает. Мой Бутрос и в кино ходил, и книги читал. Сам ума набирался и меня просвещал. Все, что прочтет, расскажет, а я запоминаю.
— И про Синдбада-морехода ты от него слышал?
— Нет, это я от моряков услышал. О море я сам Бутросу всегда рассказывал всякие были и небылицы.
— Расскажи сейчас, дядя Халиль, хоть одну, — попросил Ахмад.
— Как-нибудь в другой раз…
— Расскажи сейчас, Халиль! Чего жмешься? — поддержали Ахмада и другие моряки. — Ведь сейчас зима на дворе, ветер, дождь. Самое время сказки рассказывать. Их для этого и придумали, чтобы такие длинные вечера коротать. Смотри, вон и Абу Мухаммед даже выздоровел.
Абу Мухаммед и в самом деле поднялся и, опираясь о стенку, приблизился к компании. Халиль налил ему стакан чаю. Как Халиль ни упирался, а пришлось все-таки уважить моряков.
Разошлись только после полуночи. Последним вышел Халиль. Он погасил за собой свет, и кофейню поглотила кромешная тьма.
Таруси возвращался в кофейню поздно ночью. Ветер свирепствовал, того и гляди собьет с ног и бросит на скалы. Он выл, свистел, бесновался, будто тысячи джиннов с воплями устремились на землю. Они все сокрушали и ломали на своем пути, призвав на помощь сразу все стихии — и дождь, и гром, и молнию, и бурю.
Таруси шел на ощупь, ничего не видя перед собой. Ну и ночка! «Каково-то сейчас в море?» — невольно мелькнула у него мысль.
И, словно отвечая на его вопрос, над морем, рассекая небо, вдруг вспыхнула молния. Он увидел, как огромные волны, будто табун взбесившихся коней с белыми пенящимися гривами, неслись, наскакивая и налезая друг на друга, сталкивались и разбегались, опять сливались и смешивались, чтобы, ощетинившись белыми гребнями, с ревом обрушиться на скалы. Стена за стеною налетает на берег и, разбиваясь о скалы, в бессильной злобе откатывается назад, чтобы, слившись со следующей волной, с еще большей яростью наброситься на многострадальный берег. По мере приближения к берегу зловещий гул неукротимо нарастал и, натолкнувшись на скалы, переходил в яростный, оглушительный рев.
Сколько ни вглядывался Таруси в небо, он так и не увидел там ни одной звездочки. Трудно было понять: то ли небо так заволокло тучами, то ли его поглотила вместе с землей несущаяся с моря мгла. Вместе с порывами ветра на землю низвергались потоки дождя.
Дождь хлестал, барабанил, затем, будто утомившись, лениво моросил, потом, словно передохнув, снова принимался лить как из ведра.
Сильный ветер никак не хотел впускать Таруси в кофейню. Когда, преодолев его сопротивление, Таруси все же открыл дверь, ветер в буйстве своем чуть не сорвал ее с петель и теперь уже не давал ее закрыть. Захлопнув наконец за собой дверь, Таруси перевел дыхание, вытер мокрое лицо, снял промокшие до ниточки пиджак и брюки, надел халат. Его лицо было спокойно, и на нем не отражалось ни тени волнения, которое обычно испытывает человек, когда бушует стихия. Таруси уже привык к бурям.
Он зажег лампу. «Неплохо бы сейчас выпить чашечку горячего кофе и выкурить сигарету», — подумал Таруси. Подойдя к стойке, он только теперь увидел на скамейке закутавшегося в одеяло Абу Мухаммеда. Тот, проснувшись, жалобно застонал. Таруси почувствовал угрызение совести: как же он забыл о больном товарище. И пока кипятил воду на мангале, мысленно ругал себя за черствость. Он заварил для Абу Мухаммеда чай, а себе — кофе и подошел к постели больного.