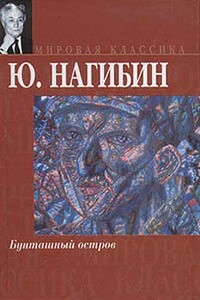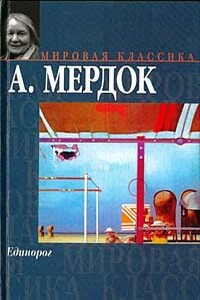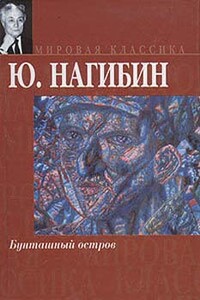— Надо мной смеются, когда я показываю кому-нибудь свою тетрадку, — сказал Лодовико. — Но если вы, ваше сиятельство, соблаговолите продиктовать мне по буквам трудные слова, завистникам не к чему будет придраться: грамматика не создает таланта.
Только на третьи сутки ночью Фабрицио вполне благополучно высадился в ольховой рощице, не доехав одного лье до Понте-Лаго-Оскуро. Весь следующий день он прятался в коноплянике, а Лодовико один отправился в Феррару; там он снял небольшую комнатку у бедного еврея, который сразу понял, что тут можно хорошо заработать, если держать язык за зубами. В сумерках Фабрицио въехал в Феррару верхом на крестьянской лошадке, — пешком он идти не мог: солнце напекло ему голову на реке, рана у бедра и рана в плече, которое Джилетти проткнул ему шпагой в начале поединка, воспалились и вызвали лихорадку.
Еврей, хозяин квартиры, разыскал надежного хирурга, и тот, сообразив тоже, как здесь можно поживиться, сказал Лодовико, что «по долгу совести» обязан сообщить полиции о ранах молодого человека, которого Лодовико именует своим братом.
— Закон ясен, — добавил хирург. — Совершенно очевидно, что ваш брат не мог сам себя ранить, как он рассказывает, упав будто бы с лестницы в ту минуту, когда у него в руке был раскрытый нож.
Лодовико холодно ответил совестливому хирургу, что если тот послушается велений своей совести, то, прежде чем покинуть Феррару, он, Лодовико, будет иметь честь своей собственной рукой показать на нем действие раскрытого ножа. Когда он сообщил Фабрицио об этой беседе, тот разбранил его. Однако надо было бежать, не теряя ни минуты. Лодовико сказал еврею, что больному полезно будет подышать свежим воздухом, сходил за экипажем, и друзья покинули этот дом навсегда.
Читатель, вероятно, найдет слишком длинным рассказ о всевозможных уловках, к которым вынуждало отсутствие паспорта: такого рода беспокойства во Франции уже нет, но в Италии, особенно у берегов По, только и речи, что о паспортах. Беспрепятственно выехав из Феррары, как будто на прогулку, Лодовико отпустил экипаж, вернулся затем в город через другие ворота и приехал за Фабрицио в седиоле, которую нанял для путешествия на двенадцать лье. Неподалеку от Болоньи друзья приказали кучеру выбраться проселками на ту дорогу, что ведет в Болонью из Флоренции. Ночь они провели в самой убогой харчевне, какую удалось им отыскать, а наутро Фабрицио почувствовал себя в силах немного пройти пешком, и они вошли в Болонью, как будто возвращаясь с прогулки. Паспорт Джилетти они сожгли: смерть актера, несомненно, уже стала известна, и менее опасно было оказаться под арестом за отсутствие паспорта, чем за предъявление паспорта убитого человека.
Лодовико знал в Болонье двух-трех слуг из богатых домов и отправился на разведку. Он рассказал им, что пришел из Флоренции, что дорогой его младший брат, которого он взял с собой, задержался в харчевне, не желая вставать с постели до рассвета, и пообещал встретиться с Лодовико в деревне, где тот намеревался отдохнуть в самые жаркие часы дня. Прождав понапрасну брата, Лодовико решил пойти обратно и нашел его замертво лежащим на дороге: какие-то люди, затеяв с ним ссору, ударили его камнем, изранили кинжалом и вдобавок ограбили. Брат — красивый малый, умеет править лошадьми и чистить их, знает грамоте; ему очень хочется поступить на место в какой-нибудь хороший дом. Лодовико намеревался, в случае нужды, добавить, что, когда брат упал, грабители убежали и захватили с собой котомку, где лежало белье и паспорта обоих братьев.
Прибыв в Болонью, Фабрицио почувствовал сильную усталость, но не осмелился явиться без паспорта в гостиницу и вошел в громадную церковь Сан-Петроне. Там была восхитительная прохлада; вскоре он совсем ожил. «Неблагодарный я, — подумал он, — зашел в церковь посидеть, точно в кофейню!» Он бросился на колени и горячо возблагодарил бога за явное покровительство сопутствовавшее ему с той минуты, как он, на беду свою, убил Джилетти. До сих пор он еще с трепетом вспоминал, какая опасность угрожала ему, если б его узнали в полицейской канцелярии Казаль-Маджоре. «У писаря в глазах было столько недоверия, — думал Фабрицио, — он трижды перечел мой паспорт, и как же это он не заметил, что мой рост вовсе не пять футов десять дюймов, что мне не тридцать девять лет, и лицо у меня не изрыто оспой? Как я должен благодарить тебя, господи! А я не поспешил повергнуть к твоим стопам свое ничтожество! Гордец, — я воображал, что лишь благодаря суетному рассудку человеческому мне удалось избегнуть Шпильберга, уже готового поглотить меня!»