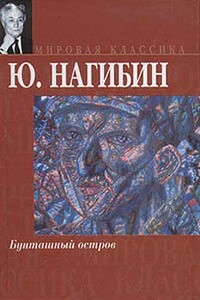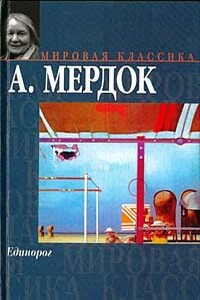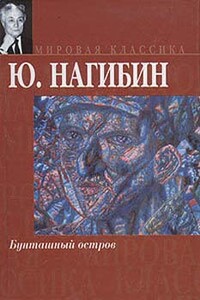Узнав о возвращении нашего героя, Клелия пришла в отчаяние: благочестивая девушка не умела лукавить с собой и хорошо знала, что без Фабрицио ей не видать счастья, но ведь в тот день, когда генерала почти отравили, она дала обет мадонне принести себя в жертву отцу — выйти замуж за маркиза Крешенци. Она дала также обет никогда больше не видеть Фабрицио, и уже совесть жестоко упрекала бедняжку за то признание, которое она сделала в письме накануне его побега. Как же описать то, что произошло в ее опечаленном сердце, когда, уныло наблюдая за своими птицами, порхавшими в вольере, она по привычке подняла голову, взглянула с нежностью на окно, откуда узник когда-то смотрел на нее, и вдруг увидела Фабрицио: он с ласковой почтительностью поклонился ей.
Сперва она подумала, что это видение, посланное небом в наказание ей, затем вдруг поняла, что это страшная действительность. «Его поймали, — шептала она. — Он погибнет!» Ей вспомнилось все, что говорили в крепости после побега узника: самый последний сторож считал себя смертельно оскорбленным. Клелия посмотрела на Фабрицио, и против ее воли этот взгляд изобразил всю ее любовь, все ее отчаяние.
«Ужели вы думаете, — казалось, говорила она Фабрицио, — что я найду счастье в том пышном дворце, который украшают для меня? Отец все твердит, что вы так же бедны, как и мы. Боже мой, с какою радостью я делила бы с вами бедность! Но, увы, нам больше нельзя видеться!»
У Клелии не было сил прибегнуть к алфавиту, она только смотрела на Фабрицио и вдруг, почувствовав себя дурно, упала на стул, стоявший у окна. Голова ее опустилась на подоконник, но лицо было обращено к Фабрицио, словно она хотела до последней минуты видеть любимого, и он мог вволю смотреть на нее. Через несколько минут она открыла глаза и сразу же устремила взгляд на Фабрицио; в глазах его она увидела слезы, но то были слезы величайшего счастья: он понял, что в разлуке Клелия не забыла его. Несчастные влюбленные некоторое время, словно зачарованные, смотрели друг на друга. Фабрицио осмелился запеть и, словно аккомпанируя себе на гитаре, импровизировал слова песни: «Я вернулся в тюрьму, чтобы вновь видеть вас. Скоро меня будут судить».
Слова эти как будто пробудили всю добродетель Клелии: она вскочила со стула и закрыла руками глаза; затем торопливыми жестами постаралась объяснить, что никогда больше не должна видеть его, — она обещала это мадонне и сегодня смотрела на него лишь в забывчивости. Фабрицио дерзнул снова выразить свою любовь. Тогда Клелия в негодовании убежала, давая себе клятву никогда больше не видеть его, — таковы были точные слова ее обета мадонне: «Мои глаза никогда больше не увидят его». Она написала их на листочке бумаги, и ее дядя, дон Чезаре, позволил ей сжечь за обедней этот листочек на алтаре, в минуту вознесения даров.
Но несмотря на все клятвы, появление Фабрицио в башне Фарнезе вернуло Клелию к прежнему ее образу жизни. Обычно она весь день проводила одна в своей комнате. Нежданно увидев Фабрицио и едва оправившись от смятения, она принялась бродить по всему дому и, так сказать, возобновила знакомство со всеми своими друзьями среди прислуги комендантского дворца. Болтливая старуха, судомойка на кухне, сказала ей с таинственным видом:
— Ну, теперь уж синьору Фабрицио не выйти из крепости.
— Он, конечно, не повторит прежней ошибки и не попытается вновь перелезть через стену, — ответила Клелия. — Он выйдет отсюда через ворота, когда его оправдают.
— Нет, ваша милость, уж я знаю, что говорю… Его вынесут из крепости ногами вперед.
Клелия побелела как полотно, старуха заметила это и сразу остановила поток своего красноречия. Она решила, что сделала большой промах, сказав такие слова дочери коменданта, которой придется всех убеждать, что Фабрицио умер от болезни. Поднимаясь к себе, Клелия встретила тюремного врача, честного, но робкого человека, и он с крайне испуганным видом сообщил ей, что Фабрицио сильно занемог. Клелия едва устояла на ногах; она побежала искать своего дядю, доброго дона Чезаре, и, наконец, нашла его в часовне: он горячо молился, и лицо у него было расстроенное. Позвонили к обеду. За столом братья не перемолвились ни единым словом. Только к концу обеда генерал обратился к брату с каким-то язвительным замечанием. Аббат взглянул на слуг, и они тотчас же вышли из комнаты.