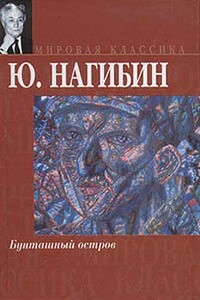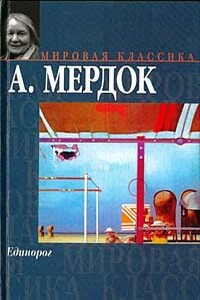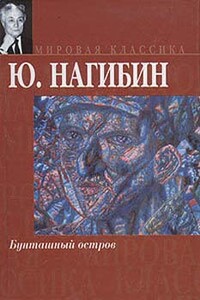Фабрицио хранил, как сокровище, кусок угля, найденный им в тюремной печке; тут он поспешил воспользоваться волнением Клелии и принялся писать на ладони одну за другой буквы, из которых сложились следующие слова:
«Люблю вас и жизнью дорожу лишь потому, что вижу вас. Главное, пришлите бумаги и карандаш».
Как и надеялся Фабрицио, крайний ужас, отражавшийся в чертах Клелии, помешал ей прервать беседу после дерзких слов: «Люблю вас» — и она только выразила большое неудовольствие. У Фабрицио хватило догадливости прибавить: «Сегодня очень ветрено, я плохо слышал те благосклонные предупреждения, что вы пропели; фортепиано заглушало слова. Что, например, значит отрава, о которой вы упомянули?»
При этих словах ужас с прежней силой овладел сердцем Клелии; она стала торопливо писать крупные буквы на вырванных из книги страницах; Фабрицио возликовал, увидев, как через три месяца тщетных стараний, установился, наконец, столь желанный ему способ беседы. Однако он продолжал так хорошо удавшуюся хитрость. Стремясь теперь добиться переписки, он поминутно притворялся, что не понимает слов, складывавшихся из букв, которые Клелия чертила на бумаге и показывала ему.
Наконец, Клелия убежала, услышав голос отца, — больше всего она боялась, как бы генерал не пришел за ней. По природной своей подозрительности он отнюдь не был бы доволен близким расстоянием между окном вольеры и ставнем, закрывавшим окно узника. За несколько минут до появления Фабрицио, когда смертельная тревога томила Клелию, ей самой пришло на ум, что можно бросить камешек, обернутый бумагой, в верхнюю часть окна, над ставнем, — и если бы, по воле случая, в камере не оказалось тюремщика, сторожившего Фабрицио, такой способ сообщения был бы самым надежным.
Узник поспешно принялся изготовлять тесьму из простынь; вечером, в десятом часу, он явственно расслышал легкое постукивание: стучали по кадке с апельсиновым деревцем, стоявшим под его окном; он спустил тесьму, потом поднял ее и вытянул снизу тонкую, очень длинную веревку, к которой был привязан пакетик с шоколадом, а кроме того, к несказанной его радости, — бумага, свернутая в трубку, и карандаш; он снова опустил веревку, но больше ничего не получил, — вероятно, к апельсиновым деревцам приблизился часовой. Но и так Фабрицио опьянел от радости; он тотчас же принялся писать Клелии пространное письмо, и лишь только оно было закончено, привязал его к веревке и спустил из окна. Больше трех часов он ждал, не придут ли взять письмо, несколько раз снова поднимал его, делал в нем изменения. «Если Клелия не прочтет моего письма нынче вечером, — думал он, — пока ее еще волнуют слухи об отраве, завтра, она, возможно, даже мысли не допустит о том, чтобы переписываться со мной».
А Клелия против воли должна была поехать с отцом в гости; Фабрицио почти догадался об этом, когда в половине первого ночи во двор въехала карета, — он уже узнавал генеральских лошадей по стуку копыт. Затем он услышал, как генерал прошел по площадке, как часовые, звякнув ружьями, взяли «на караул»; и какова же была его радость, когда через несколько минут после этого он почувствовал, что закачалась веревка, которую он обмотал вокруг запястья. К веревке привязали какой-то груз и двумя толчками дали сигнал поднять его; сделать это было нелегко, — мешал широкий выступ карниза у самого подоконника.
Груз, который Фабрицио, наконец, поднял, оказался графином с водой, обернутым шалью. Бедный юноша, так долго живший в одиночестве, покрыл восторженными поцелуями эту шаль. Невозможно описать его волнение, когда он обнаружил приколотую к ней записку — предмет столь долгих и тщетных надежд.
«Пейте только эту воду, питайтесь только присланным шоколадом; завтра сделаю все возможное, чтобы передать вам хлеб; корочку со всех сторон помечу чернильными крестиками. Страшно говорить об этом, но знайте, что Барбоне, вероятно, поручено отравить вас. Как вы не понимаете, что то, о чем вы говорите в письме, написанном карандашом, должно быть мне тягостно? Право, после этого я не стала бы писать, если б вам не грозила ужасная опасность. Сегодня видела герцогиню; она и граф здоровы, но она очень похудела. Не касайтесь больше в письмах „того предмета“, — неужели вы хотите, чтобы я рассердилась?»