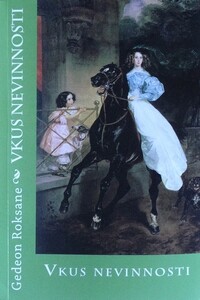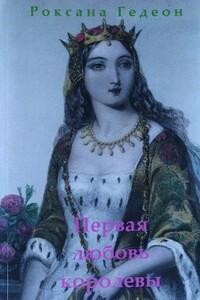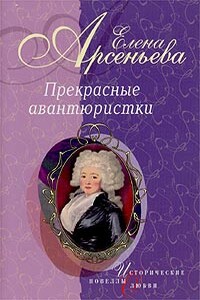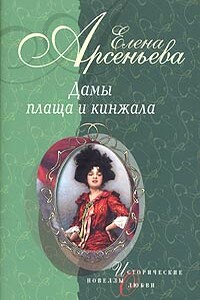С началом сентября в нашей камере произошли изменения.
Сначала был выпущен драматург Бомарше по личному приказанию прокурора Манюэля. День спустя на свободу вышел аббат Руаю, вызволенный из тюрьмы своими учениками Робеспьером и Фрероном.
Мы недоумевали. Я готова была уже поверить в то, что террор смягчается, что люди, пришедшие к власти, опомнятся и откроют переполненные тюрьмы.
Мы недоумевали, и, надо признать, в каждом из нас затеплилась надежда на лучшее. Нет, мы не были легковерными, и жизнь нас многому научила, но человеку всегда свойственно надеяться. Повеселела даже бледная Валентина. Каждый из нас втайне предполагал, что двери тюрьмы откроются и для него.
Ни во что не верил только аббат Барди, каждый день повторяя, что будет грызть санкюлотов зубами, но легко им не дастся. Но мы надеялись, да так, что даже не обратили внимания на то, что 1 сентября куда-то исчезли наши надзиратели. Исчезли, оставив нас запертыми в камерах.
А тем временем мы оказались одной ногой в пропасти и не знали, что нас уже обрекли на гибель, что Молох революции требовал новых убийств и мы должны были стать очередной кровавой жертвой на его алтарь.
Мы не знали этого. Запертые в Ла Форс, мы не получали газет, не ведали о том, что происходит в Париже.
А тем временем австрийская и прусская армии вторглись на территорию Франции в надежде восстановить монархию. 23 августа пала крепость Лонгви. В начале сентября под ударами герцога Брауншвейгского пал Верден. Дорога на Париж была свободна.
Все это вызвало панику среди санкюлотов: ведь герцог обещал, войдя в Париж, уничтожить всех, кто покушался на короля!
И тогда Дантон – да, тот самый добрый продажный Дантон – развернул кровавый стяг террора и пустил слух о том, что тысячи аристократов, священников и просто случайно арестованных людей, которыми были переполнены все тюрьмы, подготовили чудовищный заговор, и, как только пруссаки подойдут к Парижу, аристократы вырвутся из тюрем и перережут парижан.
Ничего нелепее и придумать было нельзя. Но кому нужна была правда, если всем так нравилась ложь? Заключенные были обречены.
Военный министр Серван нарочно уехал из Парижа. Министр внутренних дел Ролан сказал: «На грядущие события нужно набросить покрывало». Ну а мэр города Петион всегда становился невидимым, когда приближалась опасность.
Мы были заперты в тюрьмах, как животные, загнанные на бойню. Мы даже ни о чем не догадывались.
8
Когда ударил сентябрьский набат, никто не понимал, что случилось. Заключенные обеспокоенно шептались, поверяя друг другу свои догадки.
Может, герцог Брауншвейгский с полками уже стоит под Парижем?
Может, против революции уже началась новая революция?
За окном едва рассвело, утро чуть теплилось, ночь еще не ушла. Маркиз де Лескюр посмотрел на часы: было пять утра.
– Как вы думаете, что это? – спросила я тревожно.
Я не могла не помнить, что подобный набат звучал всегда, когда приближалась трагедия: в день взятия Бастилии, в день набега на Версаль и, наконец, в ночь на 10 августа, когда пал Тюильри.
– Не знаю, – сквозь зубы произнес маркиз. – Может быть, они вслед за королем решили свергнуть и Собрание. Кто знает. Вот когда они свергнут все на свете, тогда можно ничего не опасаться.
– Э-э, дорогой сын мой, – отозвался аббат Барди. – Все на свете свергнуть никак нельзя. Всегда что-нибудь да останется. У меня вот табака третий день нет, а этот болван Мишо все не показывается!
Маркиз не курил, и отсутствие табака его мало волновало. Но, услышав имя Мишо, он метнул на меня странный взгляд – взгляд побитой собаки. Мне стало неловко. Должно быть, кто-то рассказал ему о моем поступке. Но я вовсе не хотела, чтобы он чувствовал себя виноватым.
Подумав об этом, я решила отложить расспросы о самочувствии маркиза и его ране.
Надзирателей действительно не было, и это казалось странным. Толстяк Мишо отсутствовал уже второй день. Еду нам никто не носил. Мы поделили наши скудные запасы черствого хлеба, очень хорошо понимая, что долго так не может продолжаться. Благо, что в последнее время каждый день шел дождь. Мы выставляли кувшины на окно, за ночь они наполнялись водой, и жажда нас не мучила. А если дожди прекратятся? Мы должны будем умирать от голода и жажды, замурованные в четырех стенах?